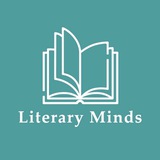#рецензия
Константин Сперанский «Ротозеи»
Литература — штука непредсказуемая. Она может зарождаться в лакированных кабинетах старинных университетов, а может возникать стихийно и неожиданно. Причем место появления никак не гарантирует качества, что доказано уже не раз. Чего стоит хотя бы пример битников.
И, впрочем, не стоит ходить далеко. Сегодня в России существует собственное литературное «подполье» — главным образом, петербургское. И именно оно продолжает нам дарить образцы прозы: неоднородной, живой, подчас резкой, но от этого не менее интересной. Некоторые авторы из этой среды уже появлялись на нашем канале — Кирилл Рябов с романом «777», а также наш любимчик Антон Секисов (о его книгах мы рассказывали тут, тут, тут и еще вот тут). Теперь настало время поговорить о другом важном имени из этой же «тусовки» — о писателе, поэте и музыканте Константине Сперанском и его дебютном романе «Ротозеи».
По сюжету «Ротозеи» — это фрагменты повседневности, пережитой и отрефлексированной самим автором. Перед нами своеобразный автофикшн, обернутый в слой культурных и литературных аллюзий. А если копнуть глубже — это книга о том, как тексты вплетаются в жизнь, как они накладываются на наш опыт, интерпретируют его, преобразуют, иногда даже диктуют его ритм.
У Сперанского получился литературный поединок — своего рода бокс между внутренним читателем (им самим) и его интеллектуальными оппонентами: Беньямином, Платоновым, Олешей, Селином, Уэльбеком, Мамлеевым, Георгием Ивановым и другими. И надо сказать, спарринг выходит зрелищный: автор наносит точные смысловые удары, где-то спорит, истолковывает, комментирует, отвечает, и все это превращается в живую, напряженную литературную драму.
Это роман-эксперимент, в котором переплетаются эссеистика, цитаты, стилистические выкрутасы и чисто художественные жесты. Его можно читать по-разному: как хронику времени, как личный дневник, как подборку книг, на которые стоит обратить внимание и которые можно примерить к собственному опыту. Эта множественность подходов — часть его прелести. Она позволяет вступить с текстом в диалог, а не просто прочитать его «от и до».
Сперанский делает то, что умеют немногие: превращает чтение в личное событие. И, возможно, именно это отличает живую литературу от литературного производства.
@literaryminds
Константин Сперанский «Ротозеи»
Литература — штука непредсказуемая. Она может зарождаться в лакированных кабинетах старинных университетов, а может возникать стихийно и неожиданно. Причем место появления никак не гарантирует качества, что доказано уже не раз. Чего стоит хотя бы пример битников.
И, впрочем, не стоит ходить далеко. Сегодня в России существует собственное литературное «подполье» — главным образом, петербургское. И именно оно продолжает нам дарить образцы прозы: неоднородной, живой, подчас резкой, но от этого не менее интересной. Некоторые авторы из этой среды уже появлялись на нашем канале — Кирилл Рябов с романом «777», а также наш любимчик Антон Секисов (о его книгах мы рассказывали тут, тут, тут и еще вот тут). Теперь настало время поговорить о другом важном имени из этой же «тусовки» — о писателе, поэте и музыканте Константине Сперанском и его дебютном романе «Ротозеи».
По сюжету «Ротозеи» — это фрагменты повседневности, пережитой и отрефлексированной самим автором. Перед нами своеобразный автофикшн, обернутый в слой культурных и литературных аллюзий. А если копнуть глубже — это книга о том, как тексты вплетаются в жизнь, как они накладываются на наш опыт, интерпретируют его, преобразуют, иногда даже диктуют его ритм.
У Сперанского получился литературный поединок — своего рода бокс между внутренним читателем (им самим) и его интеллектуальными оппонентами: Беньямином, Платоновым, Олешей, Селином, Уэльбеком, Мамлеевым, Георгием Ивановым и другими. И надо сказать, спарринг выходит зрелищный: автор наносит точные смысловые удары, где-то спорит, истолковывает, комментирует, отвечает, и все это превращается в живую, напряженную литературную драму.
Это роман-эксперимент, в котором переплетаются эссеистика, цитаты, стилистические выкрутасы и чисто художественные жесты. Его можно читать по-разному: как хронику времени, как личный дневник, как подборку книг, на которые стоит обратить внимание и которые можно примерить к собственному опыту. Эта множественность подходов — часть его прелести. Она позволяет вступить с текстом в диалог, а не просто прочитать его «от и до».
Сперанский делает то, что умеют немногие: превращает чтение в личное событие. И, возможно, именно это отличает живую литературу от литературного производства.
@literaryminds
❤14👍5🤔4🔥2😎2
#литературавдатах
Сегодня исполняется 49 лет со дня рождения современного шотландско-американского писателя Дугласа Стюарта (Douglas Stuart), лауреата Букеровской премии (2020).
Он родился в Глазго, в рабочем районе, атмосфера которого сильно повлияла на его творчество. Его детство прошло в условиях бедности и социальной изоляции: мать умерла от алкоголизма, когда Дугласу было шестнадцать, а отца он не знал. Эти личные трагедии, глубокое чувство утраты и отчужденности стали ключевыми темами его литературного мира.
Международную известность Дугласу Стюарту принес дебютный роман «Шагги Бейн», за который он получил Букеровскую премию, став вторым шотландцем, удостоенным этой награды, а также много других международных премий. Книга была встречена с восторгом за эмоциональную силу, стилистическую зрелость и тонкое изображение гендерной и классовой идентичности. В романе рассказывается (почти автобиографическая история) о мальчике, растущем в Глазго 1980-х годов, в разгар экономического упадка и личной катастрофы — алкогольной зависимости его матери.
В 2022 году был опубликован второй роман Стюарта “Young Mungo”, но он еще не переведен на русский язык.
Сложно судить о его творчестве лишь по одной книге, но уже в «Шагги Бейне» (о котором мы обязательно напишем) обнаруживается сильное влияние таких авторов, как Иэн Бэнкс и Эдвард Сент-Обин (известный русскоязычной среде в основном по сериалу «Патрик Мелроуз», снятый по его книгам). Но стиль Стюарта все же самобытен: он сочетает реализм и лиризм, бытовую жестокость и нежность внутреннего мира.
@literaryminds
Сегодня исполняется 49 лет со дня рождения современного шотландско-американского писателя Дугласа Стюарта (Douglas Stuart), лауреата Букеровской премии (2020).
Он родился в Глазго, в рабочем районе, атмосфера которого сильно повлияла на его творчество. Его детство прошло в условиях бедности и социальной изоляции: мать умерла от алкоголизма, когда Дугласу было шестнадцать, а отца он не знал. Эти личные трагедии, глубокое чувство утраты и отчужденности стали ключевыми темами его литературного мира.
Международную известность Дугласу Стюарту принес дебютный роман «Шагги Бейн», за который он получил Букеровскую премию, став вторым шотландцем, удостоенным этой награды, а также много других международных премий. Книга была встречена с восторгом за эмоциональную силу, стилистическую зрелость и тонкое изображение гендерной и классовой идентичности. В романе рассказывается (почти автобиографическая история) о мальчике, растущем в Глазго 1980-х годов, в разгар экономического упадка и личной катастрофы — алкогольной зависимости его матери.
В 2022 году был опубликован второй роман Стюарта “Young Mungo”, но он еще не переведен на русский язык.
Сложно судить о его творчестве лишь по одной книге, но уже в «Шагги Бейне» (о котором мы обязательно напишем) обнаруживается сильное влияние таких авторов, как Иэн Бэнкс и Эдвард Сент-Обин (известный русскоязычной среде в основном по сериалу «Патрик Мелроуз», снятый по его книгам). Но стиль Стюарта все же самобытен: он сочетает реализм и лиризм, бытовую жестокость и нежность внутреннего мира.
@literaryminds
👍15❤8😎4🔥2
#рецензия
Уильям Фолкнер «Когда я умирала»
Уильяма Фолкнера называют «архитектором южной готики», а его роман «Когда я умирала» — одной из ключевых работ американского модернизма. Написанный в 1930 году за шесть недель, этот текст до сих пор фигурирует в списках «величайших романов XX века».
Текст интересно построен как череда коротких внутренних монологов от лица пятнадцати персонажей — членов семейства Бандренов, везущих мать семейства Адди к месту захоронения. Эта множественность голосов должна создать иллюзию полифонии и приблизить нас к «чистой субъективности», но на деле производит обратное впечатление. С одной стороны, прием действительно оригинален — на фоне более традиционной прозы тех лет он выглядит смело, почти революционно. С другой — он утомляет: большинство голосов звучат схоже по ритму и лексике, авторский эксперимент иногда ощущается не как литературная необходимость, а как игра в технику ради самой техники.
Фолкнеру удается запечатлеть южную провинциальную Америку эпохи бедности и упадка, отдаленную от городской модернизации. Но и это подано скорее как стилизованный фон, чем как подлинный социальный или нравственный контекст. Отсутствие сочувствия к персонажам, дистанция между читателем и героями, нарочитая фрагментарность — все это работает не на вовлечение, а на эстетическую отчужденность.
Сегодня, когда литература снова поворачивается лицом к человеку — к его травме, памяти, борьбе — этот роман Фолкнера звучит как голос другого времени (в отличие от других его произведений). Это голос литературы, влюбленной в сложную форму, но уже не способной вызвать сопереживание. В этом смысле роман стал именно тем, чем сам сюжет метафорически задает с самого начала — телом, которое несут тяжело, долго, с трудом понимая зачем.
В 2013 году актер и режиссер Джеймс Франко — один из немногих современных поклонников Фолкнера в Голливуде — снял по книге одноименную экранизацию, почти дословно следуя тексту оригинала. В 2014 году он снял еще один фильм по роману Фолкнера «Шум и ярость».
Может быть, именно в этом и есть признак настоящей актуальности: не в широкой читательской любви, а в том, что текст продолжает быть вызовом, притяжением, задачей. Даже если роман не вызывает немедленного отклика, он продолжает раздражать, провоцировать, говорить.
@literaryminds
Уильям Фолкнер «Когда я умирала»
Уильяма Фолкнера называют «архитектором южной готики», а его роман «Когда я умирала» — одной из ключевых работ американского модернизма. Написанный в 1930 году за шесть недель, этот текст до сих пор фигурирует в списках «величайших романов XX века».
Текст интересно построен как череда коротких внутренних монологов от лица пятнадцати персонажей — членов семейства Бандренов, везущих мать семейства Адди к месту захоронения. Эта множественность голосов должна создать иллюзию полифонии и приблизить нас к «чистой субъективности», но на деле производит обратное впечатление. С одной стороны, прием действительно оригинален — на фоне более традиционной прозы тех лет он выглядит смело, почти революционно. С другой — он утомляет: большинство голосов звучат схоже по ритму и лексике, авторский эксперимент иногда ощущается не как литературная необходимость, а как игра в технику ради самой техники.
Фолкнеру удается запечатлеть южную провинциальную Америку эпохи бедности и упадка, отдаленную от городской модернизации. Но и это подано скорее как стилизованный фон, чем как подлинный социальный или нравственный контекст. Отсутствие сочувствия к персонажам, дистанция между читателем и героями, нарочитая фрагментарность — все это работает не на вовлечение, а на эстетическую отчужденность.
Сегодня, когда литература снова поворачивается лицом к человеку — к его травме, памяти, борьбе — этот роман Фолкнера звучит как голос другого времени (в отличие от других его произведений). Это голос литературы, влюбленной в сложную форму, но уже не способной вызвать сопереживание. В этом смысле роман стал именно тем, чем сам сюжет метафорически задает с самого начала — телом, которое несут тяжело, долго, с трудом понимая зачем.
В 2013 году актер и режиссер Джеймс Франко — один из немногих современных поклонников Фолкнера в Голливуде — снял по книге одноименную экранизацию, почти дословно следуя тексту оригинала. В 2014 году он снял еще один фильм по роману Фолкнера «Шум и ярость».
Может быть, именно в этом и есть признак настоящей актуальности: не в широкой читательской любви, а в том, что текст продолжает быть вызовом, притяжением, задачей. Даже если роман не вызывает немедленного отклика, он продолжает раздражать, провоцировать, говорить.
@literaryminds
❤16👍7😎5🔥3
#рецензия
Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
Дебютный роман современного японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» — это притча, замаскированная под сентиментальную драму, и одновременно философское размышление о цене жизни, которой не хватает полноты. В простом, почти минималистском сюжете автор задается вопросом, по-детски прямым и метафизически неустранимым: что можно отдать взамен продолжения собственной жизни?
Главный герой, безымянный молодой почтальон, узнает, что смертельно болен раком мозга. Тут же в его квартире появляется Дьявол и, естественно, предлагает сделку: за каждый дополнительный день жизни будет исчезать один предмет из мира. Исчезают телефоны, фильмы, часы... но кульминация наступает, когда речь заходит о кошках. Почему именно они становятся нравственным пределом?
Кошка в книге Кавамуры — это не просто животное, это знак интимного, молчаливого присутствия в жизни того, что живет рядом, но не требует, не контролирует и не нуждается в доказательстве своей ценности. Кот главного героя по кличке «Капуста» — это напоминание об умершей матери, о доме, о детстве, о том, чего уже не вернуть и что уже не пересобрать.
Роман может показаться простым, даже наивным, особенно читателю, привыкшему к постмодернистским играм и сложным нарративам. Но именно это делает книгу Кавамуры особенно острой и глубокой. Она работает с утратой как с повседневной практикой — мы теряем не вещи, а контуры своего «Я», очерченные этими вещами. Стирание — это не исчезновение предмета, а выпадение части памяти, чувства, интонации.
Смерть здесь не абстрактная философская категория, а практический контекст для переосмысления жизни. Она снова и снова заставляет главного героя задаваться вопросами вроде: Что я считаю по-настоящему важным? Почему я больше не звоню отцу? Почему я больше не смотрю фильмы? Почему я живу, как будто жизнь — это просто привычка?
«Если все кошки в мире исчезнут» — это книга, которую легко недооценить. Но она написана не для того, чтобы удивлять, а чтобы напомнить. И в этом ее главное достоинство. Это роман о границах допустимого выживания: о том, что не все можно спасти даже ценой собственной жизни, если в этом спасении исчезает самое главное.
Ни одна кошка в книге не пострадала.
@literaryminds
Гэнки Кавамура «Если все кошки в мире исчезнут»
Дебютный роман современного японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» — это притча, замаскированная под сентиментальную драму, и одновременно философское размышление о цене жизни, которой не хватает полноты. В простом, почти минималистском сюжете автор задается вопросом, по-детски прямым и метафизически неустранимым: что можно отдать взамен продолжения собственной жизни?
Главный герой, безымянный молодой почтальон, узнает, что смертельно болен раком мозга. Тут же в его квартире появляется Дьявол и, естественно, предлагает сделку: за каждый дополнительный день жизни будет исчезать один предмет из мира. Исчезают телефоны, фильмы, часы... но кульминация наступает, когда речь заходит о кошках. Почему именно они становятся нравственным пределом?
Кошка в книге Кавамуры — это не просто животное, это знак интимного, молчаливого присутствия в жизни того, что живет рядом, но не требует, не контролирует и не нуждается в доказательстве своей ценности. Кот главного героя по кличке «Капуста» — это напоминание об умершей матери, о доме, о детстве, о том, чего уже не вернуть и что уже не пересобрать.
Роман может показаться простым, даже наивным, особенно читателю, привыкшему к постмодернистским играм и сложным нарративам. Но именно это делает книгу Кавамуры особенно острой и глубокой. Она работает с утратой как с повседневной практикой — мы теряем не вещи, а контуры своего «Я», очерченные этими вещами. Стирание — это не исчезновение предмета, а выпадение части памяти, чувства, интонации.
Смерть здесь не абстрактная философская категория, а практический контекст для переосмысления жизни. Она снова и снова заставляет главного героя задаваться вопросами вроде: Что я считаю по-настоящему важным? Почему я больше не звоню отцу? Почему я больше не смотрю фильмы? Почему я живу, как будто жизнь — это просто привычка?
«Если все кошки в мире исчезнут» — это книга, которую легко недооценить. Но она написана не для того, чтобы удивлять, а чтобы напомнить. И в этом ее главное достоинство. Это роман о границах допустимого выживания: о том, что не все можно спасти даже ценой собственной жизни, если в этом спасении исчезает самое главное.
@literaryminds
❤18😎5👍4🔥3🥰2
#литературавдатах
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Пауля Томаса Манна (Paul Thomas Mann), одного из крупнейших немецкоязычных писателей XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе, человека, чье творчество стало зеркалом кризисов и надежд европейской культуры.
Родился в Любеке в состоятельной купеческой семье, что позже нашло отражение в его первом романе «Будденброки» (1901) — эпопее о деградации буржуазной династии, принесшей ему мировую известность. Уже здесь проявилось его мастерство психологического анализа, ирония и интерес к медленным, почти музыкальным формам повествования.
В юности Манн восхищался Шопенгауэром, Вагнером и Ницше — интеллектуальный коктейль, который питал его размышления о культуре, индивидуализме и декадансе. Эти идеи особенно ярко проявились в «Смерти в Венеции» (1912), изысканной новелле о художнике, одержимом идеей красоты и обреченной страсти.
В 1924 году вышел его философский роман «Волшебная гора», действие которого происходит в санатории в Давосе. Это произведение — настоящий интеллектуальный лабиринт, где столкнулись идеи времени и вечности, жизни и болезни, Запада и Востока, либерализма и тоталитаризма. Роман стал символом целой эпохи и духовной топографией Европы накануне катастрофы.
В эмиграции в США он завершил монументальную тетралогию «Иосиф и его братья» (1933-1943), переосмыслив библейский миф как универсальный сюжет о судьбе, прощении и человеческом достоинстве.
Поздние романы, такие как «Доктор Фаустус» (1947), вновь затрагивают тему гибели Германии, теперь уже через историю музыканта, продавшего душу ради гениальности. Это — прощание Манна с Европой и попытка осмыслить природу зла и соблазн величия.
В 1929 году Томас Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За выдающийся роман “Будденброки”, ставший классикой современной литературы, а также за вдохновленную и глубокую прозу, отличающуюся художественным совершенством».
@literaryminds
Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения Пауля Томаса Манна (Paul Thomas Mann), одного из крупнейших немецкоязычных писателей XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе, человека, чье творчество стало зеркалом кризисов и надежд европейской культуры.
Родился в Любеке в состоятельной купеческой семье, что позже нашло отражение в его первом романе «Будденброки» (1901) — эпопее о деградации буржуазной династии, принесшей ему мировую известность. Уже здесь проявилось его мастерство психологического анализа, ирония и интерес к медленным, почти музыкальным формам повествования.
В юности Манн восхищался Шопенгауэром, Вагнером и Ницше — интеллектуальный коктейль, который питал его размышления о культуре, индивидуализме и декадансе. Эти идеи особенно ярко проявились в «Смерти в Венеции» (1912), изысканной новелле о художнике, одержимом идеей красоты и обреченной страсти.
В 1924 году вышел его философский роман «Волшебная гора», действие которого происходит в санатории в Давосе. Это произведение — настоящий интеллектуальный лабиринт, где столкнулись идеи времени и вечности, жизни и болезни, Запада и Востока, либерализма и тоталитаризма. Роман стал символом целой эпохи и духовной топографией Европы накануне катастрофы.
В эмиграции в США он завершил монументальную тетралогию «Иосиф и его братья» (1933-1943), переосмыслив библейский миф как универсальный сюжет о судьбе, прощении и человеческом достоинстве.
Поздние романы, такие как «Доктор Фаустус» (1947), вновь затрагивают тему гибели Германии, теперь уже через историю музыканта, продавшего душу ради гениальности. Это — прощание Манна с Европой и попытка осмыслить природу зла и соблазн величия.
В 1929 году Томас Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За выдающийся роман “Будденброки”, ставший классикой современной литературы, а также за вдохновленную и глубокую прозу, отличающуюся художественным совершенством».
@literaryminds
❤29😎5🔥3👏1
#нобелевка
Марио Варгас Льоса «Город и псы»
Хотя бум латиноамериканской литературы давно остался в прошлом, его влияние ощущается до сих пор. Однако взгляд на это явление со временем изменился: из маргинального и экзотического оно превратилось в фундамент мировой культуры XX века. Трудно представить современный канон без Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара или Хорхе Луиса Борхеса — писателей, не только подаривших миру новые формы повествования, но и переосмысливших роль литературы как таковой.
Одним из ярчайших представителей латиноамериканской литературы стал перуанский писатель и публицист Марио Варгас Льоса, получивший широкую известность благодаря дебютному роману «Город и псы». В 2010 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».
Сюжет «Города и псов» разворачивается в военном училище Леонсио Прадо, где по разным причинам оказываются подростки из всех социальных слоев. Эта среда становится идеальной почвой для жестокости, нетерпимости и дедовщины. Группа старшекурсников пытается проникнуть в учительскую, чтобы украсть ответы на контрольную, но их разоблачают. Администрация применяет коллективное наказание, надеясь выявить виновных. Метод устрашения срабатывает, но вскоре при подозрительных обстоятельствах погибает кадет, выдавший заговорщиков. Несмотря на безразличие начальства, его друг Альберто, прозванный Поэтом, начинает собственное расследование.
«Город и псы» — роман предельно натуралистичный. Льоса сам проходил обучение в этом училище, и потому изображает агрессию и насилие с пугающей достоверностью. Однако он не ограничивается частным случаем: учебное заведение становится моделью всего общества, в котором социальные институты подчиняют себе личность. Повествуя о страхе, предательстве и лицемерии, автор не предлагает рецептов спасения и не делает моральных призывов. Он смотрит глубже — заставляет задуматься, почему любые попытки вырваться из системы лишь укрепляют ее.
@literaryminds
Марио Варгас Льоса «Город и псы»
Хотя бум латиноамериканской литературы давно остался в прошлом, его влияние ощущается до сих пор. Однако взгляд на это явление со временем изменился: из маргинального и экзотического оно превратилось в фундамент мировой культуры XX века. Трудно представить современный канон без Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара или Хорхе Луиса Борхеса — писателей, не только подаривших миру новые формы повествования, но и переосмысливших роль литературы как таковой.
Одним из ярчайших представителей латиноамериканской литературы стал перуанский писатель и публицист Марио Варгас Льоса, получивший широкую известность благодаря дебютному роману «Город и псы». В 2010 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».
Сюжет «Города и псов» разворачивается в военном училище Леонсио Прадо, где по разным причинам оказываются подростки из всех социальных слоев. Эта среда становится идеальной почвой для жестокости, нетерпимости и дедовщины. Группа старшекурсников пытается проникнуть в учительскую, чтобы украсть ответы на контрольную, но их разоблачают. Администрация применяет коллективное наказание, надеясь выявить виновных. Метод устрашения срабатывает, но вскоре при подозрительных обстоятельствах погибает кадет, выдавший заговорщиков. Несмотря на безразличие начальства, его друг Альберто, прозванный Поэтом, начинает собственное расследование.
«Город и псы» — роман предельно натуралистичный. Льоса сам проходил обучение в этом училище, и потому изображает агрессию и насилие с пугающей достоверностью. Однако он не ограничивается частным случаем: учебное заведение становится моделью всего общества, в котором социальные институты подчиняют себе личность. Повествуя о страхе, предательстве и лицемерии, автор не предлагает рецептов спасения и не делает моральных призывов. Он смотрит глубже — заставляет задуматься, почему любые попытки вырваться из системы лишь укрепляют ее.
@literaryminds
❤12🔥11👍5🥰2😎2
#литературавдатах
Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения Ясунари Кавабаты (Yasunari Kawabata), японского писателя, новеллиста и эссеиста, первого лауреата Нобелевской премии по литературе от Японии. Его творчество — тонкая ткань из тишины, утраты, мимолетных прикосновений к красоте и страданию, где восточная эстетика переплетается с модернистским психологизмом.
Писательская манера Кавабаты узнаваема: его проза минималистична, образна, насыщена молчанием, где многое остается недосказанным, но ощущаемым.
Среди самых известных произведений:
«Снежная страна» (1937) — история невозможной любви между светской гейшей и интеллектуалом из Токио, разворачивающаяся на фоне заснеженных северных ландшафтов;
«Тысячекрылый журавль» (1951) — роман о чувственности и вине, где чайная церемония превращается в метафору подавленных страстей;
«Стон горы» (1954) — меланхоличная семейная сага, написанная с беспримерной психологической деликатностью.
Своим лучшим произведение Кавабата считал роман «Мэйдзин» (1951), о котором мы обязательно напишем, — глубокое размышление о смене эпох и ускользающей традиции, в форме документально-художественного повествования о партии го между последним великим мастером старой школы и его молодым соперником. Роман рассматривается как аллегория столкновения прошлого и будущего, формального и живого, культуры и времени.
В 1968 году Ясунари Кавабата был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За его литературное мастерство, которое с большой чувствительностью выражает суть японского сознания».
@literaryminds
Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения Ясунари Кавабаты (Yasunari Kawabata), японского писателя, новеллиста и эссеиста, первого лауреата Нобелевской премии по литературе от Японии. Его творчество — тонкая ткань из тишины, утраты, мимолетных прикосновений к красоте и страданию, где восточная эстетика переплетается с модернистским психологизмом.
Писательская манера Кавабаты узнаваема: его проза минималистична, образна, насыщена молчанием, где многое остается недосказанным, но ощущаемым.
Среди самых известных произведений:
«Снежная страна» (1937) — история невозможной любви между светской гейшей и интеллектуалом из Токио, разворачивающаяся на фоне заснеженных северных ландшафтов;
«Тысячекрылый журавль» (1951) — роман о чувственности и вине, где чайная церемония превращается в метафору подавленных страстей;
«Стон горы» (1954) — меланхоличная семейная сага, написанная с беспримерной психологической деликатностью.
Своим лучшим произведение Кавабата считал роман «Мэйдзин» (1951), о котором мы обязательно напишем, — глубокое размышление о смене эпох и ускользающей традиции, в форме документально-художественного повествования о партии го между последним великим мастером старой школы и его молодым соперником. Роман рассматривается как аллегория столкновения прошлого и будущего, формального и живого, культуры и времени.
В 1968 году Ясунари Кавабата был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За его литературное мастерство, которое с большой чувствительностью выражает суть японского сознания».
@literaryminds
❤20👍6🥰5🔥3😎2
#рецензия
Вирджиния Вулф «Между актами»
«Между актами» — это не просто последний роман Вирджинии Вулф, изданный, кстати, посмертно, это своего рода литературная эпитафия, предельно оголенная по форме и в то же время насыщенная философским содержанием. Книга, написанная в тени надвигающейся Второй мировой войны и психической нестабильности самой Вулф, кажется намеренно распадающейся на обрывки мыслей, реплик и пауз — как будто сам язык в последний раз пытается что-то сказать.
Сюжет до банального прост: в английской деревне проводится любительское театральное представление, где местные жители разыгрывают панораму английской истории. Пьеса идет, зрители смотрят, кто-то шепчется, кто-то скучает, кто-то вспоминает. Но на самом деле это текст о том, что происходит в промежутках — между актами, между словами, между событиями и между людьми. И именно в этих пустотах, в расщелинах времени и быта, рождается нечто подлинное: тоска, напряженное ожидание, предчувствие конца или нового начала, а может быть и иная реальность.
Вулф сознательно избегает плотного нарратива, который можно было бы «пересказать»: вместо этого она предлагает ритуальный текст, в котором реальность театра, природы, политики и внутренней речи сливаются в многоголосицу. Язык здесь не служит средством передачи смысла, а становится частью ритма, дыхания, музыкального колебания коллективного сознания.
Пожалуй, главным героем романа оказывается само время, фрагментированное, звенящее пустотой, дышащее войной и памятью. Как и в «Миссис Дэллоуэй», Вулф филигранно работает с временем, но в «Между актами» оно еще более хрупко, почти неуловимо. Постоянные скачки сознания, незавершенные реплики, отложенные решения — все говорит о том, что мир, в котором еще возможен устойчивый сюжет, уже на грани исчезновения.
В финале нет развязки, есть только тишина, как последний штрих пера на ускользающем фоне истории. «Между актами» — это роман-пауза, в которой язык оглядывается на себя самого и смолкает, оставляя читателя наедине с пустотой, ставшей содержанием.
@literaryminds
Вирджиния Вулф «Между актами»
«Между актами» — это не просто последний роман Вирджинии Вулф, изданный, кстати, посмертно, это своего рода литературная эпитафия, предельно оголенная по форме и в то же время насыщенная философским содержанием. Книга, написанная в тени надвигающейся Второй мировой войны и психической нестабильности самой Вулф, кажется намеренно распадающейся на обрывки мыслей, реплик и пауз — как будто сам язык в последний раз пытается что-то сказать.
Сюжет до банального прост: в английской деревне проводится любительское театральное представление, где местные жители разыгрывают панораму английской истории. Пьеса идет, зрители смотрят, кто-то шепчется, кто-то скучает, кто-то вспоминает. Но на самом деле это текст о том, что происходит в промежутках — между актами, между словами, между событиями и между людьми. И именно в этих пустотах, в расщелинах времени и быта, рождается нечто подлинное: тоска, напряженное ожидание, предчувствие конца или нового начала, а может быть и иная реальность.
Вулф сознательно избегает плотного нарратива, который можно было бы «пересказать»: вместо этого она предлагает ритуальный текст, в котором реальность театра, природы, политики и внутренней речи сливаются в многоголосицу. Язык здесь не служит средством передачи смысла, а становится частью ритма, дыхания, музыкального колебания коллективного сознания.
Пожалуй, главным героем романа оказывается само время, фрагментированное, звенящее пустотой, дышащее войной и памятью. Как и в «Миссис Дэллоуэй», Вулф филигранно работает с временем, но в «Между актами» оно еще более хрупко, почти неуловимо. Постоянные скачки сознания, незавершенные реплики, отложенные решения — все говорит о том, что мир, в котором еще возможен устойчивый сюжет, уже на грани исчезновения.
В финале нет развязки, есть только тишина, как последний штрих пера на ускользающем фоне истории. «Между актами» — это роман-пауза, в которой язык оглядывается на себя самого и смолкает, оставляя читателя наедине с пустотой, ставшей содержанием.
@literaryminds
❤22🔥6🥰3😎2
#рецензия
Эдуард Лимонов «Москва майская»
Иногда книги находят своего читателя лишь после смерти автора. Но куда реже случаются истории, когда утерянные рукописи уже состоявшихся писателей неожиданно возвращаются к нам, как будто прошлое решает напомнить о себе. Один из таких редких случаев — публикация недавно найденной рукописи Эдуарда Лимонова «Москва майская». Писателя, публициста, политика — фигуры безусловно противоречивой, но чье литературное наследие трудно переоценить. Достаточно вспомнить «Это я — Эдичка», «У нас была Великая эпоха», «Палач», «Великую мать любви» и другие тексты, благодаря которым он стал голосом поколения — резким, исповедальным, неудобным и бескомпромиссным.
«Москва майская» переносит нас в столицу 1969 года, восполняя важный пробел в автофикшн-библиографии Лимонова — между харьковской и нью-йоркской трилогиями. Роман рассказывает о трех майских днях из жизни Эдички, но, как и многое у Лимонова, сюжет здесь лишь условный повод. Вспышки памяти, сдвиги времени, спиральное движение воспоминаний превращают эти дни в калейдоскоп образов Москвы и ее обитателей: города, живого, плотного, почти осязаемого.
По словам самого автора, рукопись была утрачена после его отъезда из Франции. Он называл ее «сырым текстом», неготовым к публикации. И действительно, «Москва майская» ощущается как черновик — рваный, невычитанный, местами неряшливый. Но за всем этим проступает подлинный голос Лимонова — исповедальный, язвительный, дерзкий и мгновенно узнаваемый.
Вместе с тем, «Москва майская» не только личная хроника. Это и культурный срез времени: Лимонову удается срезонировать с московской средой конца шестидесятых, обозначить ее типажи, напряжения, настроения. Роман определенно заслуживает внимания, но, возможно, с оговоркой, что это вряд ли должна быть ваша первая встреча с автором. Лучше начать с более канонических текстов, которые позволят погрузиться в его мир более последовательно и полно.
@literaryminds
Эдуард Лимонов «Москва майская»
Иногда книги находят своего читателя лишь после смерти автора. Но куда реже случаются истории, когда утерянные рукописи уже состоявшихся писателей неожиданно возвращаются к нам, как будто прошлое решает напомнить о себе. Один из таких редких случаев — публикация недавно найденной рукописи Эдуарда Лимонова «Москва майская». Писателя, публициста, политика — фигуры безусловно противоречивой, но чье литературное наследие трудно переоценить. Достаточно вспомнить «Это я — Эдичка», «У нас была Великая эпоха», «Палач», «Великую мать любви» и другие тексты, благодаря которым он стал голосом поколения — резким, исповедальным, неудобным и бескомпромиссным.
«Москва майская» переносит нас в столицу 1969 года, восполняя важный пробел в автофикшн-библиографии Лимонова — между харьковской и нью-йоркской трилогиями. Роман рассказывает о трех майских днях из жизни Эдички, но, как и многое у Лимонова, сюжет здесь лишь условный повод. Вспышки памяти, сдвиги времени, спиральное движение воспоминаний превращают эти дни в калейдоскоп образов Москвы и ее обитателей: города, живого, плотного, почти осязаемого.
По словам самого автора, рукопись была утрачена после его отъезда из Франции. Он называл ее «сырым текстом», неготовым к публикации. И действительно, «Москва майская» ощущается как черновик — рваный, невычитанный, местами неряшливый. Но за всем этим проступает подлинный голос Лимонова — исповедальный, язвительный, дерзкий и мгновенно узнаваемый.
Вместе с тем, «Москва майская» не только личная хроника. Это и культурный срез времени: Лимонову удается срезонировать с московской средой конца шестидесятых, обозначить ее типажи, напряжения, настроения. Роман определенно заслуживает внимания, но, возможно, с оговоркой, что это вряд ли должна быть ваша первая встреча с автором. Лучше начать с более канонических текстов, которые позволят погрузиться в его мир более последовательно и полно.
@literaryminds
❤12😎7🔥4👍1
#литературавдатах
Сегодня исполняется 78 лет со дня рождения Ахмеда Салмана Рушди (Ahmed Salman Rushdie), современного англо-индийского писателя, эссеиста и интеллектуала, чья судьба оказалась неотделима от бурной истории ХХ-XXI вв. Его произведения объединяют магический реализм, политическую сатиру, постколониальную критику и глубокий интерес к культуре и мифологии Востока.
Литературную известность Рушди впервые приобрел с романом «Гримус» (1975), но настоящим прорывом стала его вторая книга — «Дети полуночи» (1981), фантастическая и аллегорическая хроника индийской истории после обретения независимости. Этот роман принес ему Букеровскую премию и по праву считается одним из величайших англоязычных романов XX века.
Но по-настоящему известным Рушди стал после публикации своего четвертого романа «Сатанинские стихи» (1988), вызвавшего масштабный религиозно-политический скандал. В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издал фетву, в которой Рушди был приговорен к смерти за «богохульство». В результате писатель был вынужден скрываться и жить под защитой британского правительства более десяти лет, став символом свободы слова, при этом не прекращая писать.
Несмотря на угрозы и покушения (в том числе нападение 12 августа 2022 года в Нью-Йорке, в результате которого он потерял зрение на один глаз), Рушди продолжает быть публичной интеллектуальной фигурой, часто выступая в защиту секуляризма, рационализма и прав литераторов.
@literaryminds
Сегодня исполняется 78 лет со дня рождения Ахмеда Салмана Рушди (Ahmed Salman Rushdie), современного англо-индийского писателя, эссеиста и интеллектуала, чья судьба оказалась неотделима от бурной истории ХХ-XXI вв. Его произведения объединяют магический реализм, политическую сатиру, постколониальную критику и глубокий интерес к культуре и мифологии Востока.
Литературную известность Рушди впервые приобрел с романом «Гримус» (1975), но настоящим прорывом стала его вторая книга — «Дети полуночи» (1981), фантастическая и аллегорическая хроника индийской истории после обретения независимости. Этот роман принес ему Букеровскую премию и по праву считается одним из величайших англоязычных романов XX века.
Но по-настоящему известным Рушди стал после публикации своего четвертого романа «Сатанинские стихи» (1988), вызвавшего масштабный религиозно-политический скандал. В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издал фетву, в которой Рушди был приговорен к смерти за «богохульство». В результате писатель был вынужден скрываться и жить под защитой британского правительства более десяти лет, став символом свободы слова, при этом не прекращая писать.
Несмотря на угрозы и покушения (в том числе нападение 12 августа 2022 года в Нью-Йорке, в результате которого он потерял зрение на один глаз), Рушди продолжает быть публичной интеллектуальной фигурой, часто выступая в защиту секуляризма, рационализма и прав литераторов.
@literaryminds
😎12❤6👍5🤣2
#рецензия
Ясунари Кавабата «Мэйдзин»
Мэйдзин — титул, который в Японии давали величайшим мастерам игры го, буквально — «Мастер».
Го — древняя восточноазиатская настольная стратегическая игра, внешне неспешная, но по глубине и сложности превосходящая шахматы.
Недавно мы вспоминали про день рождения Ясунари Кавабаты, и я тогда пообещал написать о «Мэйдзине». Вот держу слово.
Прочитав «Мэйдзин», трудно сразу сказать, о чем именно эта книга. Формально — о партии в го, сыгранной в 1938 году между двумя великими японскими мастерами: Хонъимбо Сюсаем, пожилым «непобедимым» мэтром и молодым претендентом Отакэ (у этого вымышленного персонажа был реальный прототип). Но на самом деле это история о том, как меняется культура, как один образ мышления отступает перед другим, как уходит эпоха, не сделав из этого трагедии.
Кавабата пишет очень спокойно, почти сухо. Он не комментирует, не объясняет, не подсказывает читателю, как к кому относиться. Но за этой нарочитой дистанцией скрывается глубокое сочувствие. Старый мастер постепенно сдает позиции, с трудом переносит темп партии, срывается, ошибается, но при этом сохраняет достоинство. Молодой игрок выигрывает честно, профессионально, без злобы, но он не вызывает восторга. Его победа кажется чем-то будничным, неизбежным, почти механическим.
Очень многое в «Мэйдзине» происходит не в действии, а между строк. Здесь важно не то, кто что сказал, а то, как именно он молчал. Это как в фильмах Акиры Куросавы, особенно ранних — «Расёмон», «Семь самураев», «Телохранитель» — напряжение строится не на внешней драме, а на внимании к лицам, к паузам, к тишине. Что-то происходит в человеке, и это видно не потому, что он говорит об этом, а потому, что он чуть дольше смотрит в сторону, чуть медленнее ставит фишку на доску.
«Мэйдзин» — это не просто роман о го, а почти философское размышление о том, как уходит одна эпоха и приходит другая. Без шума. Без громких слов. И оставляет после себя тишину, в которой еще некоторое время слышны отголоски прошлого…
Отдельно хочется отметить просто потрясающий перевод Анны Слащевой, читать ее работу было настоящим удовольствием!
@literaryminds
Ясунари Кавабата «Мэйдзин»
Го — древняя восточноазиатская настольная стратегическая игра, внешне неспешная, но по глубине и сложности превосходящая шахматы.
Недавно мы вспоминали про день рождения Ясунари Кавабаты, и я тогда пообещал написать о «Мэйдзине». Вот держу слово.
Прочитав «Мэйдзин», трудно сразу сказать, о чем именно эта книга. Формально — о партии в го, сыгранной в 1938 году между двумя великими японскими мастерами: Хонъимбо Сюсаем, пожилым «непобедимым» мэтром и молодым претендентом Отакэ (у этого вымышленного персонажа был реальный прототип). Но на самом деле это история о том, как меняется культура, как один образ мышления отступает перед другим, как уходит эпоха, не сделав из этого трагедии.
Кавабата пишет очень спокойно, почти сухо. Он не комментирует, не объясняет, не подсказывает читателю, как к кому относиться. Но за этой нарочитой дистанцией скрывается глубокое сочувствие. Старый мастер постепенно сдает позиции, с трудом переносит темп партии, срывается, ошибается, но при этом сохраняет достоинство. Молодой игрок выигрывает честно, профессионально, без злобы, но он не вызывает восторга. Его победа кажется чем-то будничным, неизбежным, почти механическим.
Очень многое в «Мэйдзине» происходит не в действии, а между строк. Здесь важно не то, кто что сказал, а то, как именно он молчал. Это как в фильмах Акиры Куросавы, особенно ранних — «Расёмон», «Семь самураев», «Телохранитель» — напряжение строится не на внешней драме, а на внимании к лицам, к паузам, к тишине. Что-то происходит в человеке, и это видно не потому, что он говорит об этом, а потому, что он чуть дольше смотрит в сторону, чуть медленнее ставит фишку на доску.
«Мэйдзин» — это не просто роман о го, а почти философское размышление о том, как уходит одна эпоха и приходит другая. Без шума. Без громких слов. И оставляет после себя тишину, в которой еще некоторое время слышны отголоски прошлого…
Отдельно хочется отметить просто потрясающий перевод Анны Слащевой, читать ее работу было настоящим удовольствием!
@literaryminds
❤25👍8😎5
#литературавдатах
Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Жан-Поля Сартра, французского философа, писателя, драматурга, политического бунтаря и, пожалуй, последнего мыслителя, которого уважали и рабочие, и студенты, и профессора Сорбонны.
Его роман «Тошнота» (1938) стал художественным воплощением этих идей, а фундаментальный труд «Бытие и ничто» (1943) заложил основу экзистенциальной онтологии. Во время Второй мировой войны Сартр попал в плен, но вскоре был освобожден и продолжил писать, а после войны стал публичным интеллектуалом: издал журнал «Современные времена», поддерживал левые движения, антиколониальные восстания, выступал против войны во Вьетнаме, критиковал Советский Союз и США.
В 1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Однако от премии он отказался, заявив, что писатель не должен становиться институцией.
Сартр много писал о литературе, свободе, выборе и ответственности, совмещая философию и искусство в единый, бескомпромиссный акт. Среди его ключевых работ — «Слова» (роман, о котором мы уже писали), «Экзистенциализм — это гуманизм», пьесы «Мухи», «Мертвые без погребения» и др., философские эссе и двухтомная биография Гюстава Флобера.
Он ослеп в последние годы жизни, но продолжал диктовать тексты и вмешиваться в политику. Похороны Сартра в Париже собрали десятки тысяч человек. Его идеи о свободе, абсурде, ответственности до сих пор звучат современно.
@literaryminds
Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Жан-Поля Сартра, французского философа, писателя, драматурга, политического бунтаря и, пожалуй, последнего мыслителя, которого уважали и рабочие, и студенты, и профессора Сорбонны.
Его роман «Тошнота» (1938) стал художественным воплощением этих идей, а фундаментальный труд «Бытие и ничто» (1943) заложил основу экзистенциальной онтологии. Во время Второй мировой войны Сартр попал в плен, но вскоре был освобожден и продолжил писать, а после войны стал публичным интеллектуалом: издал журнал «Современные времена», поддерживал левые движения, антиколониальные восстания, выступал против войны во Вьетнаме, критиковал Советский Союз и США.
В 1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: «За богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Однако от премии он отказался, заявив, что писатель не должен становиться институцией.
Сартр много писал о литературе, свободе, выборе и ответственности, совмещая философию и искусство в единый, бескомпромиссный акт. Среди его ключевых работ — «Слова» (роман, о котором мы уже писали), «Экзистенциализм — это гуманизм», пьесы «Мухи», «Мертвые без погребения» и др., философские эссе и двухтомная биография Гюстава Флобера.
Он ослеп в последние годы жизни, но продолжал диктовать тексты и вмешиваться в политику. Похороны Сартра в Париже собрали десятки тысяч человек. Его идеи о свободе, абсурде, ответственности до сих пор звучат современно.
@literaryminds
👍18❤8😎6
#рецензия
Сомерсет Моэм «Бремя страстей человеческих»
Мы уже упоминали имя замечательного английского писателя, драматурга и литературного критика Сомерсета Моэма в связи с его пронзительным романом «Острие бритвы». Тогда же была названа и другая книга, без которой его библиография выглядела бы неполной и тусклой. Речь, конечно, о монументальном романе «Бремя страстей человеческих». Пришло время обратиться к нему подробнее.
«Бремя страстей человеческих» — это история жизни Филипа Кэри, осиротевшего в раннем детстве и отданного на воспитание дяде и тете. С ранних лет он ощущает себя «не таким»: сначала из-за сиротства, затем — из-за врожденной хромоты, часто становившейся поводом для унижений в школе, а позже — в связи с разочарованием в, казалось бы, универсальной ценности — религии. В поисках своего места в мире он путешествует по Европе, меняет взгляды, пробует разные профессии, в попытке ответить на, быть может, главный вопрос — о смысле собственного существования.
Этот роман — образцовая версия жанра взросления, но образцовость здесь парадоксальна: она строится на разрушении жанровых канонов. У Филипа нет четкой цели, к которой он стремился бы на протяжении книги, нет кульминационного успеха. Он не достигает просветления, он просто живет — и в этом движении без ясного вектора раскрывается подлинный реализм жизни. Моэм делает главной темой обнаженную обыденность, на фоне которой проступают вечные вопросы, по-прежнему актуальные, пусть и слегка измененные временем.
Особая сила романа — в психологической глубине, с которой Моэм рисует внутренний мир героев. Не только главный персонаж, но и второстепенные фигуры приобретают объем, становясь отчасти архетипами, через которые читатель может осмыслить собственный опыт. Это тот редкий тип книги, что напоминает: ошибки, сомнения, поиски себя — это не отклонение, а естественное состояние. Мы не идеальны, мы уязвимы, зависимы, ограниченны, и именно в честности, с которой Моэм показывает это, и заключается подлинная ценность «Бремени страстей человеческих».
@literaryminds
Сомерсет Моэм «Бремя страстей человеческих»
Мы уже упоминали имя замечательного английского писателя, драматурга и литературного критика Сомерсета Моэма в связи с его пронзительным романом «Острие бритвы». Тогда же была названа и другая книга, без которой его библиография выглядела бы неполной и тусклой. Речь, конечно, о монументальном романе «Бремя страстей человеческих». Пришло время обратиться к нему подробнее.
«Бремя страстей человеческих» — это история жизни Филипа Кэри, осиротевшего в раннем детстве и отданного на воспитание дяде и тете. С ранних лет он ощущает себя «не таким»: сначала из-за сиротства, затем — из-за врожденной хромоты, часто становившейся поводом для унижений в школе, а позже — в связи с разочарованием в, казалось бы, универсальной ценности — религии. В поисках своего места в мире он путешествует по Европе, меняет взгляды, пробует разные профессии, в попытке ответить на, быть может, главный вопрос — о смысле собственного существования.
Этот роман — образцовая версия жанра взросления, но образцовость здесь парадоксальна: она строится на разрушении жанровых канонов. У Филипа нет четкой цели, к которой он стремился бы на протяжении книги, нет кульминационного успеха. Он не достигает просветления, он просто живет — и в этом движении без ясного вектора раскрывается подлинный реализм жизни. Моэм делает главной темой обнаженную обыденность, на фоне которой проступают вечные вопросы, по-прежнему актуальные, пусть и слегка измененные временем.
Особая сила романа — в психологической глубине, с которой Моэм рисует внутренний мир героев. Не только главный персонаж, но и второстепенные фигуры приобретают объем, становясь отчасти архетипами, через которые читатель может осмыслить собственный опыт. Это тот редкий тип книги, что напоминает: ошибки, сомнения, поиски себя — это не отклонение, а естественное состояние. Мы не идеальны, мы уязвимы, зависимы, ограниченны, и именно в честности, с которой Моэм показывает это, и заключается подлинная ценность «Бремени страстей человеческих».
@literaryminds
🔥13❤10👍5😎3
#рецензия
Джон Фанте «Спросите у пыли»
Каждый раз, когда мне в руки попадает какая-то книга, я ловлю себя на мысли, что это не случайность. Будто неведомая сила преподносит ее именно в тот момент, когда она действительно нужна. Как будто книга сама тебя находит. Так случилось и с романом итало-американского писателя Джона Фанте «Спросите у пыли» — книгой, которая давно стала настоящей классикой американской литературы.
Это один из тех романов, в которые не входишь, а проваливаешься. Не читаешь, а будто живешь изнутри. Я не заметил, как перевернул последнюю страницу: растворился в тексте, стал частью его плоти, его пыли, его тоски. Это книга о боли, о желании, об одиночестве и о том, каково это — хотеть стать писателем, когда весь мир, кажется, не ждет тебя.
Фанте рассказывает историю молодого писателя Артуро Бандини — бедного, дерзкого, уязвимого юноши, который приехал из глубинки покорять Лос-Анджелес. Он мечтает о славе и любви, пишет, ошибается, бредит, влюбляется в строптивую официантку Камилу Лопес и снова теряется. Это роман не о победах, а о сражениях с самим собой. Не о судьбе, а о натянутом до предела существовании, в котором отчаяние и гордость идут рука об руку. Это исповедь. Хроника внутреннего шторма. Невыносимо честная, откровенная и искренняя проза.
«Спросите у пыли» оказал колоссальное влияние на Чарльза Буковски. Именно Буковски добился переиздания романа и написал к нему восторженное предисловие — возможно, одно из самых пронзительных признаний в литературной любви, которые только были. В частности, он писал:
В 2006 году по мотивам романа Роберт Таун снял одноименный фильм с Колином Фарреллом и Сальмой Хайек в главных ролях. Фильм вышел атмосферным, но как будто чуть неуверенным в себе — в отличие от книги, где каждая фраза, каждое слово отдается долгим эхом. Книга говорит жестко, искренне, с надрывом, и поэтому запоминается не сценами, а ощущениями безысходности, тоски, страсти, любви и… пыли.
@literaryminds
Джон Фанте «Спросите у пыли»
Каждый раз, когда мне в руки попадает какая-то книга, я ловлю себя на мысли, что это не случайность. Будто неведомая сила преподносит ее именно в тот момент, когда она действительно нужна. Как будто книга сама тебя находит. Так случилось и с романом итало-американского писателя Джона Фанте «Спросите у пыли» — книгой, которая давно стала настоящей классикой американской литературы.
Это один из тех романов, в которые не входишь, а проваливаешься. Не читаешь, а будто живешь изнутри. Я не заметил, как перевернул последнюю страницу: растворился в тексте, стал частью его плоти, его пыли, его тоски. Это книга о боли, о желании, об одиночестве и о том, каково это — хотеть стать писателем, когда весь мир, кажется, не ждет тебя.
Фанте рассказывает историю молодого писателя Артуро Бандини — бедного, дерзкого, уязвимого юноши, который приехал из глубинки покорять Лос-Анджелес. Он мечтает о славе и любви, пишет, ошибается, бредит, влюбляется в строптивую официантку Камилу Лопес и снова теряется. Это роман не о победах, а о сражениях с самим собой. Не о судьбе, а о натянутом до предела существовании, в котором отчаяние и гордость идут рука об руку. Это исповедь. Хроника внутреннего шторма. Невыносимо честная, откровенная и искренняя проза.
«Спросите у пыли» оказал колоссальное влияние на Чарльза Буковски. Именно Буковски добился переиздания романа и написал к нему восторженное предисловие — возможно, одно из самых пронзительных признаний в литературной любви, которые только были. В частности, он писал:
Фанте стал моим Богом… а «Спросите у пыли» — моим любимым произведением, потому что оно стало первым моим открытием чуда.
В 2006 году по мотивам романа Роберт Таун снял одноименный фильм с Колином Фарреллом и Сальмой Хайек в главных ролях. Фильм вышел атмосферным, но как будто чуть неуверенным в себе — в отличие от книги, где каждая фраза, каждое слово отдается долгим эхом. Книга говорит жестко, искренне, с надрывом, и поэтому запоминается не сценами, а ощущениями безысходности, тоски, страсти, любви и… пыли.
@literaryminds
❤19🔥6👍5🥰4😎2
#рецензия
Константин Сперанский «Пустоцвет»
Совсем недавно мы рассказывали о дебютном романе замечательного современного писателя и музыканта Константина Сперанского «Ротозеи». Книга настолько нам понравилась, что мы без колебаний решили обратиться к его второй работе, вышедшей в этом году — роману «Пустоцвет».
Под обложкой «Пустоцвета», которая, к слову, удивительно точно передает настроение и суть книги, скрывается семейный роман, собранный автором по крупицам из воспоминаний о жизни в Кемерово на рубеже эпох, о родителях, родственниках и личных переживаниях того времени — переживаниях, которые, несмотря на свою давность, продолжают звучать в настоящем.
Семья Строкольских кажется самой обычной, ничем не примечательной семьей и в этом ее сила. История отца, ставшая сквозной нитью романа, — это история множества «простых» людей, чья жизнь оказалась под прессом перемен и обстоятельств. Особую теплоту придает книге участие своего рода «соавтора» — дедушки автора, чьи заметки об истории семьи легли в основу повествования. Это своего рода коллективная память, превращенная в художественный текст. Сперанский здесь молчаливый наблюдатель. Хотя он и главный герой, говорит он мало, почти ничего. И этот прием работает безупречно: он создает атмосферу мягкого, убаюкивающего воспоминания, которая незаметно настраивает читателя на личное — вспоминать свое детство, свою семью.
«Пустоцвет» и «Ротозеи» — книги очень разные. Точнее будет сказать так: «Пустоцвет» — очевидный шаг вперед. Сперанский сохраняет ту же пронзительную интимность, ту же предельную личность повествования, но теперь он уверенно выстраивает более классическую, четкую структуру. Это делает роман не только цельнее, но и глубже, откровеннее, а главное универсальнее.
«Пустоцвет» неспешный, но легкий для восприятия ритм, изобилующий точными формулировками и тонкими отсылками, кажется, передает не только дух ушедшего времени, но и ту самую вневременную дымку детства.
@literaryminds
Константин Сперанский «Пустоцвет»
Совсем недавно мы рассказывали о дебютном романе замечательного современного писателя и музыканта Константина Сперанского «Ротозеи». Книга настолько нам понравилась, что мы без колебаний решили обратиться к его второй работе, вышедшей в этом году — роману «Пустоцвет».
Под обложкой «Пустоцвета», которая, к слову, удивительно точно передает настроение и суть книги, скрывается семейный роман, собранный автором по крупицам из воспоминаний о жизни в Кемерово на рубеже эпох, о родителях, родственниках и личных переживаниях того времени — переживаниях, которые, несмотря на свою давность, продолжают звучать в настоящем.
Семья Строкольских кажется самой обычной, ничем не примечательной семьей и в этом ее сила. История отца, ставшая сквозной нитью романа, — это история множества «простых» людей, чья жизнь оказалась под прессом перемен и обстоятельств. Особую теплоту придает книге участие своего рода «соавтора» — дедушки автора, чьи заметки об истории семьи легли в основу повествования. Это своего рода коллективная память, превращенная в художественный текст. Сперанский здесь молчаливый наблюдатель. Хотя он и главный герой, говорит он мало, почти ничего. И этот прием работает безупречно: он создает атмосферу мягкого, убаюкивающего воспоминания, которая незаметно настраивает читателя на личное — вспоминать свое детство, свою семью.
«Пустоцвет» и «Ротозеи» — книги очень разные. Точнее будет сказать так: «Пустоцвет» — очевидный шаг вперед. Сперанский сохраняет ту же пронзительную интимность, ту же предельную личность повествования, но теперь он уверенно выстраивает более классическую, четкую структуру. Это делает роман не только цельнее, но и глубже, откровеннее, а главное универсальнее.
«Пустоцвет» неспешный, но легкий для восприятия ритм, изобилующий точными формулировками и тонкими отсылками, кажется, передает не только дух ушедшего времени, но и ту самую вневременную дымку детства.
@literaryminds
❤13👍5🔥3😎2
#рецензия
Флэнн О’Брайен «Третий полицейский»
Ирландский писатель Флэнн О’Брайен начал работать над «Третьим полицейским» (The Third Policeman) в 1939 году и завершил лишь через десять лет. Книга получилась странной, мрачной, смешной и абсолютно ни на что не похожей. Ни один издатель — ни в Ирландии, ни в Англии, ни в США — не решился ее публиковать. Тогда О’Брайен просто сказал друзьям, что потерял единственный экземпляр рукописи и восстановить ее не может. На самом деле роман тихо пролежал в ящике почти двадцать лет. И только после смерти автора, в 1967 году, он наконец увидел свет и сразу же стал культовым. О’Брайена читали, обсуждали, цитировали: от Джеймса Джойса и Самюэля Беккета до Терри Пратчетта. Благодаря чему он занял свое место в литературной истории не как «еще один ирландский писатель», а как создатель одного из самых странных и гениальных романов XX века в жанре «черного юмора в театре абсурда».
Сюжет на первый взгляд напоминает детектив. Безымянный герой убивает человека, скрывает следы, но затем неожиданно оказывается в провинциальном полицейском участке, где происходит что-то странное. Полицейские ведут себя не как следователи, а как философы-экспериментаторы. Они рассуждают о велосипедах, атомах, вечном возвращении, невозможности различить преступление и реальность. Постепенно становится понятно, что пространство здесь нелогично, время зациклено, а виноват не тот, кто убил, а тот, кто думает, что знает, что делает.
Главное тут не сюжет, а ощущение. Книга читается как парадокс, как шутка, как кошмар и как метафора. Здесь все вроде бы логично, но в этой логике все не так. Время начинает повторяться. Пространство сжимается. Герой блуждает по деревне, где законы физики и здравого смысла либо работают через раз, либо вовсе не работают.
Если вам так же сильно, как и нам, понравился «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула, то роман Флэнна О’Брайена точно придется по вкусу. У Тула тоже герой оказался не в ладу с окружающим миром — миром, который сам по себе абсурден, и в котором юмор одновременно спасает и дизориентирует.
@literaryminds
Флэнн О’Брайен «Третий полицейский»
Ирландский писатель Флэнн О’Брайен начал работать над «Третьим полицейским» (The Third Policeman) в 1939 году и завершил лишь через десять лет. Книга получилась странной, мрачной, смешной и абсолютно ни на что не похожей. Ни один издатель — ни в Ирландии, ни в Англии, ни в США — не решился ее публиковать. Тогда О’Брайен просто сказал друзьям, что потерял единственный экземпляр рукописи и восстановить ее не может. На самом деле роман тихо пролежал в ящике почти двадцать лет. И только после смерти автора, в 1967 году, он наконец увидел свет и сразу же стал культовым. О’Брайена читали, обсуждали, цитировали: от Джеймса Джойса и Самюэля Беккета до Терри Пратчетта. Благодаря чему он занял свое место в литературной истории не как «еще один ирландский писатель», а как создатель одного из самых странных и гениальных романов XX века в жанре «черного юмора в театре абсурда».
Сюжет на первый взгляд напоминает детектив. Безымянный герой убивает человека, скрывает следы, но затем неожиданно оказывается в провинциальном полицейском участке, где происходит что-то странное. Полицейские ведут себя не как следователи, а как философы-экспериментаторы. Они рассуждают о велосипедах, атомах, вечном возвращении, невозможности различить преступление и реальность. Постепенно становится понятно, что пространство здесь нелогично, время зациклено, а виноват не тот, кто убил, а тот, кто думает, что знает, что делает.
Главное тут не сюжет, а ощущение. Книга читается как парадокс, как шутка, как кошмар и как метафора. Здесь все вроде бы логично, но в этой логике все не так. Время начинает повторяться. Пространство сжимается. Герой блуждает по деревне, где законы физики и здравого смысла либо работают через раз, либо вовсе не работают.
Если вам так же сильно, как и нам, понравился «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула, то роман Флэнна О’Брайена точно придется по вкусу. У Тула тоже герой оказался не в ладу с окружающим миром — миром, который сам по себе абсурден, и в котором юмор одновременно спасает и дизориентирует.
@literaryminds
❤14👍9🔥6🤣3😎2
#нобелевка
Гюнтер Грасс «Под местным наркозом»
Очевидно, что немецкая литература после Второй мировой войны разделилась на «до» и «после». Прежде всего это заметно в тематике: так называемая «новая» немецкая литература вывела на первый план социально-политические проблемы современности и попытки исторического осмысления прошлого. Мы уже рассказывали о Нобелевском лауреате Генрихе Бёлле, чьи книги пронизаны этим нервом времени. Пора вспомнить и другого важного автора той эпохи — Гюнтера Грасса, чье творчество в 1999 году также было отмечено Нобелевским комитетом «за то, как его игриво-мрачные притчи изображают забытое лицо истории».
Роман «Под местным наркозом» не столь известен, как, скажем, «Жестяной барабан», но дает отличное представление об авторском стиле и ключевых темах, волнующих писателя.
В центре повествования — рассказ учителя немецкого языка Эберхарда Штаруша о сложных отношениях с учениками, а точнее, с одним конкретным учеником — Филиппом Шербаумом. Штаруш излагает эту историю… своему дантисту, находясь в стоматологическом кресле. Любопытная особенность лечения — это включенный телевизор, помогающий пациенту отвлечься от боли, и который становится для героя идеальным фоном для воспоминаний и размышлений.
Текст Грасса плотный и вязкий. Поначалу приходится прилагать усилия, чтобы вычленить опорные смыслы, и без подготовки легко упустить важные контексты — роман требует от читателя определенного багажа. Но этот труд не отпугивает: интерес поддерживается глубокой личной рефлексией о конфликте поколений, о вине за ошибки прошлого и социальной апатии. Насилие и радикализм — еще две важные темы — пронизывают роман вплоть до его заглавия.
«Под местным наркозом» напомнил мне прочитанную ранее «Внучку» Бернхарда Шлинка. Тематика перекликается, но у Шлинка повествование более легкое и динамичное — что, впрочем, вопрос вкуса.
@literaryminds
Гюнтер Грасс «Под местным наркозом»
Очевидно, что немецкая литература после Второй мировой войны разделилась на «до» и «после». Прежде всего это заметно в тематике: так называемая «новая» немецкая литература вывела на первый план социально-политические проблемы современности и попытки исторического осмысления прошлого. Мы уже рассказывали о Нобелевском лауреате Генрихе Бёлле, чьи книги пронизаны этим нервом времени. Пора вспомнить и другого важного автора той эпохи — Гюнтера Грасса, чье творчество в 1999 году также было отмечено Нобелевским комитетом «за то, как его игриво-мрачные притчи изображают забытое лицо истории».
Роман «Под местным наркозом» не столь известен, как, скажем, «Жестяной барабан», но дает отличное представление об авторском стиле и ключевых темах, волнующих писателя.
В центре повествования — рассказ учителя немецкого языка Эберхарда Штаруша о сложных отношениях с учениками, а точнее, с одним конкретным учеником — Филиппом Шербаумом. Штаруш излагает эту историю… своему дантисту, находясь в стоматологическом кресле. Любопытная особенность лечения — это включенный телевизор, помогающий пациенту отвлечься от боли, и который становится для героя идеальным фоном для воспоминаний и размышлений.
Текст Грасса плотный и вязкий. Поначалу приходится прилагать усилия, чтобы вычленить опорные смыслы, и без подготовки легко упустить важные контексты — роман требует от читателя определенного багажа. Но этот труд не отпугивает: интерес поддерживается глубокой личной рефлексией о конфликте поколений, о вине за ошибки прошлого и социальной апатии. Насилие и радикализм — еще две важные темы — пронизывают роман вплоть до его заглавия.
«Под местным наркозом» напомнил мне прочитанную ранее «Внучку» Бернхарда Шлинка. Тематика перекликается, но у Шлинка повествование более легкое и динамичное — что, впрочем, вопрос вкуса.
@literaryminds
❤14👍6😎4
#рецензия
Дон Делилло «Белый шум»
Роман «Белый шум» современного итало-американского писателя Дона Делилло, лауреата Национальной книжной премии США, считается классикой постмодернизма и ключевым произведением американской литературы конца XX века. Однако далеко не каждый читатель найдет в этом тексте то, за что его столь высоко ценят критики. Мой личный опыт прочтения скорее разочаровал: роман показался скучным, затянутым и поверхностным.
Главный герой, Джек Глэдни, заведующий кафедрой гитлероведения (!) провинциального Колледжа-на-Холме, ведет обывательскую жизнь в кампусном городке, утопающем в потребительской рутине и информационном шуме. Он пять раз женат, воспитывает шестерых детей от разных браков и просто ужасно боится смерти.
Интересно, что на фоне инфантильных и отрешенных взрослых дети в романе кажутся куда более проницательными и трезвомыслящими — возможно, это один из немногих выразительных контрастов в романе. Взрослые персонажи, напротив, кажутся эмоционально вялыми и внутренне отстраненными. Их диалоги порой напоминают не столько осмысленную беседу, сколько обмен случайными фразами. Возможно, это авторский прием — передать отчуждение и отсутствие подлинной связи между людьми в эпоху медиа и потребления.
Книга поднимает важные темы: страх смерти, техногенную тревожность, информационную перегрузку. Однако Делилло обращается с ними довольно прямолинейно — он словно проговаривает то, что читатель и так способен понять. «Белый шум» особенно по теме страха перед смертью очень напоминает и местами даже отсылает к «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого: и там, и здесь персонаж постепенно осознает неотвратимость конца и тщетность внешне благополучной жизни. Но если у Толстого это подается через глубокую внутреннюю трансформацию героя, то у Делилло — через внешние знаки, тревожный фон и суету, не приводящую к подлинному катарсису.
«Белый шум» может быть интересен как историко-культурный текст — отпечаток американских тревог 1980-х: страх перед ядерной катастрофой, технофобия, рост потребления. Однако даже при всей своей тематической амбициозности, книга оставляет ощущение незавершенности, литературной недосказанности и читательской неудовлетворенности.
В 2022 году режиссер Ноа Баумбак по мотивам романа снял одноименный фильм с Адамом Драйвером в главной роли. И это тот редкий случай, когда экранизация оказалась выразительнее и живее книги.
@literaryminds
Дон Делилло «Белый шум»
Роман «Белый шум» современного итало-американского писателя Дона Делилло, лауреата Национальной книжной премии США, считается классикой постмодернизма и ключевым произведением американской литературы конца XX века. Однако далеко не каждый читатель найдет в этом тексте то, за что его столь высоко ценят критики. Мой личный опыт прочтения скорее разочаровал: роман показался скучным, затянутым и поверхностным.
Главный герой, Джек Глэдни, заведующий кафедрой гитлероведения (!) провинциального Колледжа-на-Холме, ведет обывательскую жизнь в кампусном городке, утопающем в потребительской рутине и информационном шуме. Он пять раз женат, воспитывает шестерых детей от разных браков и просто ужасно боится смерти.
Интересно, что на фоне инфантильных и отрешенных взрослых дети в романе кажутся куда более проницательными и трезвомыслящими — возможно, это один из немногих выразительных контрастов в романе. Взрослые персонажи, напротив, кажутся эмоционально вялыми и внутренне отстраненными. Их диалоги порой напоминают не столько осмысленную беседу, сколько обмен случайными фразами. Возможно, это авторский прием — передать отчуждение и отсутствие подлинной связи между людьми в эпоху медиа и потребления.
Книга поднимает важные темы: страх смерти, техногенную тревожность, информационную перегрузку. Однако Делилло обращается с ними довольно прямолинейно — он словно проговаривает то, что читатель и так способен понять. «Белый шум» особенно по теме страха перед смертью очень напоминает и местами даже отсылает к «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого: и там, и здесь персонаж постепенно осознает неотвратимость конца и тщетность внешне благополучной жизни. Но если у Толстого это подается через глубокую внутреннюю трансформацию героя, то у Делилло — через внешние знаки, тревожный фон и суету, не приводящую к подлинному катарсису.
«Белый шум» может быть интересен как историко-культурный текст — отпечаток американских тревог 1980-х: страх перед ядерной катастрофой, технофобия, рост потребления. Однако даже при всей своей тематической амбициозности, книга оставляет ощущение незавершенности, литературной недосказанности и читательской неудовлетворенности.
В 2022 году режиссер Ноа Баумбак по мотивам романа снял одноименный фильм с Адамом Драйвером в главной роли. И это тот редкий случай, когда экранизация оказалась выразительнее и живее книги.
@literaryminds
👍14😎5❤4
#литературавдатах
Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения советского писателя Валентина Саввича Пикуля, фигуры одновременно противоречивой и поразительно цельной. Его творчество, часто воспринимаемое как «бульварная история» или «патриотический роман», с течением времени обретает все более четкое очертание: это — художественно-исторический комментарий к судьбе России, выполненный голосом «морального историографа» XX века.
Список произведений Пикуля впечатляет — более 20 крупных романов и десятки повестей и очерков. Он работал в уникальном жанре, который сам называл «малой беллетризованной эпопеей», где реальная история соединялась с вымыслом, а документ — с интуицией.
Наиболее знаковые произведения:
«Пером и шпагой» — об эпохе Екатерины II и князе Безбородко; роман-портрет эпохи блестящей, но не идеализированной.
«Фаворит» — литературный гранд-тур по екатерининскому времени, где Потёмкин и Екатерина показаны с нежностью, иронией и большим чувством меры.
«Честь имею» — один из наиболее трагических романов, хроника русской военной элиты, обреченной революцией.
«Нечистая сила» — блистательный пример того, как писатель превращает парадоксальную фигуру (Распутин) в метафору гибнущей монархии.
«Три возраста Окини-сан» — проникновенный взгляд на русско-японское соприкосновение через женскую судьбу.
Пикуль не историк, но летописец, который может быть пристрастен, драматичен, даже мифотворчески вольный. Его стиль — это сплав факта и морали, где исторический персонаж — это не столько носитель архивной достоверности, сколько носитель нравственной идеи.
@literaryminds
Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения советского писателя Валентина Саввича Пикуля, фигуры одновременно противоречивой и поразительно цельной. Его творчество, часто воспринимаемое как «бульварная история» или «патриотический роман», с течением времени обретает все более четкое очертание: это — художественно-исторический комментарий к судьбе России, выполненный голосом «морального историографа» XX века.
Список произведений Пикуля впечатляет — более 20 крупных романов и десятки повестей и очерков. Он работал в уникальном жанре, который сам называл «малой беллетризованной эпопеей», где реальная история соединялась с вымыслом, а документ — с интуицией.
Наиболее знаковые произведения:
«Пером и шпагой» — об эпохе Екатерины II и князе Безбородко; роман-портрет эпохи блестящей, но не идеализированной.
«Фаворит» — литературный гранд-тур по екатерининскому времени, где Потёмкин и Екатерина показаны с нежностью, иронией и большим чувством меры.
«Честь имею» — один из наиболее трагических романов, хроника русской военной элиты, обреченной революцией.
«Нечистая сила» — блистательный пример того, как писатель превращает парадоксальную фигуру (Распутин) в метафору гибнущей монархии.
«Три возраста Окини-сан» — проникновенный взгляд на русско-японское соприкосновение через женскую судьбу.
Пикуль не историк, но летописец, который может быть пристрастен, драматичен, даже мифотворчески вольный. Его стиль — это сплав факта и морали, где исторический персонаж — это не столько носитель архивной достоверности, сколько носитель нравственной идеи.
@literaryminds
👍11❤6😎5
#рецензия
Гайто Газданов «Ночные дороги»
На нашем канале мы стараемся рассказывать вам о самых разных писателях — от признанных мастеров до совсем новых имен. Но среди этого множества есть те, к чьим книгам мы возвращаемся снова и снова. Потому что именно они задели нас по-настоящему — глубже, чем другие. Один из таких авторов — русский писатель-эмигрант осетинского происхождения Гайто Газданов. Его дебютный роман «Вечер у Клэр» мы вспоминали полгода назад, а теперь пришло время поговорить о еще одной книге — «Ночные дороги», которая по мнению многих читателей и критиков считается самой важной и глубокой в его творчестве.
Сюжет «Ночных дорог» — это мозаика зарисовок и воспоминаний безымянного ночного таксиста, эмигранта, вынужденного бесконечно колесить по однообразным улочкам Парижа и развозить самых разных пассажиров — представителей местной фауны, как он их называет.
Очень точно стиль Газданова охарактеризовал К. Сперанский (чьи книги мы тоже не обошли стороной — вот здесь и здесь), написав, что
Действительно, в каждой его книге есть этот мираж — удивительно осязаемый и в то же время неуловимый, но именно в «Ночных дорогах» он проявляется особенно ясно.
Хотя внешне повествование будто бы движется вперед — такси мчится сквозь ночной Париж — на самом деле герой застрял. Застрял в своем такси так же, как его душа — в прошлом, в воспоминаниях о России и той трагедии, которая заставила его навсегда покинуть родину. Истории пассажиров, порой разворачивающиеся прямо у него на глазах, становятся поводом вновь и вновь осмысливать собственную судьбу — абсурдную, болезненную, неразрешимую. И тут поражает одно: как Газданов в этом калейдоскопе якобы уникальных историй находит повторяющиеся мотивы, которые словно зеркально отражаются в самом герое.
Предельная честность Газданова, уже знакомая нам по «Вечеру у Клэр», и здесь становится сильной стороной романа. «Ночные дороги» книга неидеальная, но в своей лаконичности и универсальности удивительно точная. И, как всегда, у Газданова, по-настоящему живая.
@literaryminds
Гайто Газданов «Ночные дороги»
На нашем канале мы стараемся рассказывать вам о самых разных писателях — от признанных мастеров до совсем новых имен. Но среди этого множества есть те, к чьим книгам мы возвращаемся снова и снова. Потому что именно они задели нас по-настоящему — глубже, чем другие. Один из таких авторов — русский писатель-эмигрант осетинского происхождения Гайто Газданов. Его дебютный роман «Вечер у Клэр» мы вспоминали полгода назад, а теперь пришло время поговорить о еще одной книге — «Ночные дороги», которая по мнению многих читателей и критиков считается самой важной и глубокой в его творчестве.
Сюжет «Ночных дорог» — это мозаика зарисовок и воспоминаний безымянного ночного таксиста, эмигранта, вынужденного бесконечно колесить по однообразным улочкам Парижа и развозить самых разных пассажиров — представителей местной фауны, как он их называет.
Очень точно стиль Газданова охарактеризовал К. Сперанский (чьи книги мы тоже не обошли стороной — вот здесь и здесь), написав, что
«Газданов создавал в своей прозе полуфантастический мир, который в сочетании с зыбкой, подвижной формой производил впечатление пленительного миража».
Действительно, в каждой его книге есть этот мираж — удивительно осязаемый и в то же время неуловимый, но именно в «Ночных дорогах» он проявляется особенно ясно.
Хотя внешне повествование будто бы движется вперед — такси мчится сквозь ночной Париж — на самом деле герой застрял. Застрял в своем такси так же, как его душа — в прошлом, в воспоминаниях о России и той трагедии, которая заставила его навсегда покинуть родину. Истории пассажиров, порой разворачивающиеся прямо у него на глазах, становятся поводом вновь и вновь осмысливать собственную судьбу — абсурдную, болезненную, неразрешимую. И тут поражает одно: как Газданов в этом калейдоскопе якобы уникальных историй находит повторяющиеся мотивы, которые словно зеркально отражаются в самом герое.
Предельная честность Газданова, уже знакомая нам по «Вечеру у Клэр», и здесь становится сильной стороной романа. «Ночные дороги» книга неидеальная, но в своей лаконичности и универсальности удивительно точная. И, как всегда, у Газданова, по-настоящему живая.
@literaryminds
❤12😎5👍4