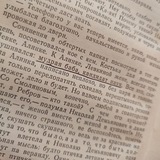Совсем недавно рассказывала студентам, что страшное слово теракт из новостей сопровождало всё мое детство. И спустя время именно в последние годы я очень часто вспоминаю о тех событиях, даже намеренно возвращаю себя в их переживание, но теперь чувствую это иначе (все-таки детское восприятие несколько защищает от их подлинной кошмарности). Временная дистанция и приобретенное с ней взросление запоздало формирует тотальное чувство незащищенности, символом которого теракт был и остается — как действие, всегда кажущееся со стороны внезапным, хаотичным, бессмысленным и бесцельным. И оттого совершенно выбивающим почву из-под ног. Я понимаю, что все это время они происходили в самых разных местах (и, как бы горько это ни звучало, к смерти нам уже не привыкать), но, да, мои чувства обостряются, когда речь идет о боли, которую в один момент, совершенно к этому не готовясь, пережили сотни людей, живущих совсем рядом со мной. Даже вместе со мной.
Семьям, друзьям, близким погибших и пострадавших в ходе трагедии в Москве, как бы ни мала была вероятность, что кто-то из них увидит этот пост, — моя поддержка и соболезнования.
Всем, кому тоже сейчас плохо, — моя поддержка.
Семьям, друзьям, близким погибших и пострадавших в ходе трагедии в Москве, как бы ни мала была вероятность, что кто-то из них увидит этот пост, — моя поддержка и соболезнования.
Всем, кому тоже сейчас плохо, — моя поддержка.
🕊90❤34🙏7👍1
Неделю назад посмотрела Нежный Восток — не слишком нежный, но прекрасный фильм Шона Прайса Уильямса, оператора, отчасти создавшего визуальный стиль американского инди XXI века (он снимал все ленты Алекса Росса Перри, несколько раз работал с братьями Сэфди, разово сотрудничал с Робертом Грином и Чарльзом Покелом). Когда фильм только начался, у меня возникло уютное дежавю, но мелькнула мысль: ладно, будет, как всегда, очень приятно смотреть, но, наверное, все пройдет слишком гладко, привычно, без откровений. Но почти сразу я себя одернула — во-первых, какие еще откровения? Во-вторых, вышел Нежный Восток совершенно непредсказуемым, двигающимся по такой изломанной траектории, что, вот уж действительно, не угадаешь, в чем конкретно будет состоять следующий поворот (этому просмотру тоже были свойственны моменты громкого хохота, чистого удивления, почти шока, — о них я в прошлом году писала в связи с Годом рождения).
В американском независимом кино, хотя зачастую оно сознательно, в пику Голливуду, стремится приблизиться к повседневным реалиям самых обыкновенных людей, частенько встречаются сказочные мотивы — не сказать, чудеса, но, например, долгая и полная препятствий дорога, волшебные предметы, герои-помощники, ускользающее от четких координат время. В этом смысле Нежный Восток напомнил не только фильмы режиссеров, с которыми Уильямс сотрудничал, но и любимого Хэла Хартли, а обаятельная Лиллиан (от ее лица невозможно оторвать взгляд) — кого-то между Колобком и Алисой, пересекающей Страну Чудес. В роли последней тут — необъятная Америка из новоголливудских фильмов, земля свободы и смерти. Как и герои Беспечного ездока, Лиллиан бежит в обратную национальной мифологии сторону — не с Востока на Запад, а с Запада на Восток, с условной дикой земли в столь же условную респектабельную цивилизацию, портрет которой у Уильямса получается очень ерническим. Отдельное удовольствие — сравнительно краткое появление в кадре Саймона Рэкса, при виде которого я, после Красной ракеты, начинаю беспричинно улыбаться, каких бы отбитых героев он ни играл.
В общем, это фильм, который пульсирует — бежит, дышит.
Он очень красив, местами комичен и чертовски провокативен.
Успевайте в кино или посмотрите дома при первой удобной возможности.
В американском независимом кино, хотя зачастую оно сознательно, в пику Голливуду, стремится приблизиться к повседневным реалиям самых обыкновенных людей, частенько встречаются сказочные мотивы — не сказать, чудеса, но, например, долгая и полная препятствий дорога, волшебные предметы, герои-помощники, ускользающее от четких координат время. В этом смысле Нежный Восток напомнил не только фильмы режиссеров, с которыми Уильямс сотрудничал, но и любимого Хэла Хартли, а обаятельная Лиллиан (от ее лица невозможно оторвать взгляд) — кого-то между Колобком и Алисой, пересекающей Страну Чудес. В роли последней тут — необъятная Америка из новоголливудских фильмов, земля свободы и смерти. Как и герои Беспечного ездока, Лиллиан бежит в обратную национальной мифологии сторону — не с Востока на Запад, а с Запада на Восток, с условной дикой земли в столь же условную респектабельную цивилизацию, портрет которой у Уильямса получается очень ерническим. Отдельное удовольствие — сравнительно краткое появление в кадре Саймона Рэкса, при виде которого я, после Красной ракеты, начинаю беспричинно улыбаться, каких бы отбитых героев он ни играл.
В общем, это фильм, который пульсирует — бежит, дышит.
Он очень красив, местами комичен и чертовски провокативен.
Успевайте в кино или посмотрите дома при первой удобной возможности.
❤27🕊5👍4🔥2🥰2🐳2
Как-то раз, стараясь не прийти на барные посиделки сильно раньше назначенного времени, заглянула во Все свободны и забрала с прилавка второй (как оказалось) роман Даши Благовой Течения, о котором ничего до того не слышала. Подкупило описание, обещавшее вернуть мне мой 2010-й — не конкретный год, а начало предыдущего десятилетия, воспоминания о котором отзываются и тоской по эпохе какой-то непредставимой сейчас раскованности, и моей личной щемящей теплотой к этому счастливейшему времени — когда я переехала в Петербург, поступила в университет, заселилась в общежитие и полностью отдалась новому: принялась знакомиться, меняться, расти над собой. Чувствовала такую полноту жизни, будто раньше существовала понарошку, только делала заметки в черновике.
Благова чуть старше меня, и ее опыт — миграция с юга в Москву, а не с севера в Петербург. Но куда существеннее другая разница: если верить книге, ее сепарация от семьи, в отличие от моей, оказалась затянутой и болезненной, с отторжением к тому новому, что сулила университетско-столичная жизнь. Я знала много таких ребят — кто на первом курсе днями не вставал с постели, часами просиживал в скайпе, общаясь с родителями и школьными друзьями, при удобной возможности пытался вернуться в место, которое продолжал называть домом. Как раз оттого, что лично мне не довелось такое пережить, этот опыт особенно интересно рассматривать. И книга о нем — о сильнейшей уязвимости, приводящей к (само)деструктивным действиям, тернистом взрослении.
Надо оговориться: я пишу о представленном в тексте опыте так, будто он принадлежит самой писательнице, что не совсем верно. В Течениях действует не Даша, а девочка Настя. И это помогает усилить фикшн-измерение, сделать рассказ о, вероятно, частично реальных событиях (не зря писательница и героиня одного возраста, из одного города, с одним и тем же образованием) сюжетно более четким и динамичным (история здесь, например, имеет конкретное завершение) и преувеличить некоторые детали (у героини в минуты особенно напряженные пульсирует и горит родинка над губой — как у Гарри Поттера шрам). В отличие от большинства текстов о собственном опыте, где главное — саморефлексивные отступления, Течения — это, в первую очередь, захватывающий роман о девочке в большом городе, которую терзают перевезенные из дома и приобретенные демоны, обнаруживающие свое присутствие на парах, общажных тусовках, в гостях у новых знакомых. Пока читала, не могла отделаться от мысли, что эта история стала бы прекрасным материалом для жанровой экранизации — особенно, если усилить в ней триллерный или хоррорный элемент (можно, в зависимости от желаний режиссера, развернуть потенциальный сценарий и куда-то в сторону Одинокой белой женщины, и — к Февралю).
Почитала старое интервью с Благовой, где она рассказывает, что подходит к творческому процессу максимально прагматично, вплоть до составления гугл-таблицы со строгим списком задач. Этот метод, по-видимому, как раз влияет на интонацию: она не томная, не меланхоличная. Получился стремительный, прямолинейный и скорый на слово текст — и это очень ему идет. Потому что иногда возникает ощущение, что, казалось бы, предельно индивидуальные тексты парадоксально похожи — будто пишет их если не один человек, то, как минимум, люди очень близкого темперамента. Тем приятнее встретить исключения — как в случае Юкнавич или, вот, Благовой.
Несколько постов назад я чуть ерничала по поводу тропа возвращение в родные края, свойственного личной прозе, поэтому как-то особенно порадовалась, что в Течениях такой эпизод появляется в середине, но оказывается не спасением, а промежуточным шагом, после которого нужно вернуться назад и попробовать придумать что-то другое.
И пунктирная, но важная линия книги — это политика, которая затрагивает начинающую журналистку Настю, живущую в Москве 2010-2011 годов, но лишь по касательной, как зудящий фон, от которого хочется отмахнуться. Трансформация этого восприятия остается за пределами текста, но очевидно, что она произойдет. И в этом тоже состоит мучительная перспектива взросления. Для моего поколения — точно.
Благова чуть старше меня, и ее опыт — миграция с юга в Москву, а не с севера в Петербург. Но куда существеннее другая разница: если верить книге, ее сепарация от семьи, в отличие от моей, оказалась затянутой и болезненной, с отторжением к тому новому, что сулила университетско-столичная жизнь. Я знала много таких ребят — кто на первом курсе днями не вставал с постели, часами просиживал в скайпе, общаясь с родителями и школьными друзьями, при удобной возможности пытался вернуться в место, которое продолжал называть домом. Как раз оттого, что лично мне не довелось такое пережить, этот опыт особенно интересно рассматривать. И книга о нем — о сильнейшей уязвимости, приводящей к (само)деструктивным действиям, тернистом взрослении.
Надо оговориться: я пишу о представленном в тексте опыте так, будто он принадлежит самой писательнице, что не совсем верно. В Течениях действует не Даша, а девочка Настя. И это помогает усилить фикшн-измерение, сделать рассказ о, вероятно, частично реальных событиях (не зря писательница и героиня одного возраста, из одного города, с одним и тем же образованием) сюжетно более четким и динамичным (история здесь, например, имеет конкретное завершение) и преувеличить некоторые детали (у героини в минуты особенно напряженные пульсирует и горит родинка над губой — как у Гарри Поттера шрам). В отличие от большинства текстов о собственном опыте, где главное — саморефлексивные отступления, Течения — это, в первую очередь, захватывающий роман о девочке в большом городе, которую терзают перевезенные из дома и приобретенные демоны, обнаруживающие свое присутствие на парах, общажных тусовках, в гостях у новых знакомых. Пока читала, не могла отделаться от мысли, что эта история стала бы прекрасным материалом для жанровой экранизации — особенно, если усилить в ней триллерный или хоррорный элемент (можно, в зависимости от желаний режиссера, развернуть потенциальный сценарий и куда-то в сторону Одинокой белой женщины, и — к Февралю).
Почитала старое интервью с Благовой, где она рассказывает, что подходит к творческому процессу максимально прагматично, вплоть до составления гугл-таблицы со строгим списком задач. Этот метод, по-видимому, как раз влияет на интонацию: она не томная, не меланхоличная. Получился стремительный, прямолинейный и скорый на слово текст — и это очень ему идет. Потому что иногда возникает ощущение, что, казалось бы, предельно индивидуальные тексты парадоксально похожи — будто пишет их если не один человек, то, как минимум, люди очень близкого темперамента. Тем приятнее встретить исключения — как в случае Юкнавич или, вот, Благовой.
Несколько постов назад я чуть ерничала по поводу тропа возвращение в родные края, свойственного личной прозе, поэтому как-то особенно порадовалась, что в Течениях такой эпизод появляется в середине, но оказывается не спасением, а промежуточным шагом, после которого нужно вернуться назад и попробовать придумать что-то другое.
И пунктирная, но важная линия книги — это политика, которая затрагивает начинающую журналистку Настю, живущую в Москве 2010-2011 годов, но лишь по касательной, как зудящий фон, от которого хочется отмахнуться. Трансформация этого восприятия остается за пределами текста, но очевидно, что она произойдет. И в этом тоже состоит мучительная перспектива взросления. Для моего поколения — точно.
❤47👍6🔥2
Делюсь анонсами предстоящих лекций!
Давно их не было — пыталась отдохнуть. Но пока не получается.
В апреле и мае буду сотрудничать с замечательными ребятами из БЛИК. 19 и 26 апреля в рамках Мастерской документального кино прочитаю в Вышке две открытых лекции о методах наблюдения и соучастия в документалистике.
Оба раза встречаемся в 18.30.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123, ауд. 402.
Мероприятия открыты, вход свободный для всех, но внешним слушателям нужно заранее (до среды включительно) зарегистрироваться.
А вторая новость еще лучше.
Та же команда устраивает Фестиваль видеоэссе и видеопоэзии, в котором можно принять участие, дедлайн подачи заявок — 1 мая. Все подробности можно прочитать здесь (курировать фестиваль БЛИКу помогает замечательный Максим Селезнев).
Смотр работ пройдет 18-19 мая в Севкабеле и Порядке слов. 18 мая в рамках фестиваля прочитаю еще одну, третью, лекцию — об эссеистике в документальном кино. О ней еще напомню попозже, но уже можно начать что-то планировать.
Будем надеяться, погода к этому моменту стабилизируется, так что тем более захочется субботним днем-вечером отправиться к заливу.
Давно их не было — пыталась отдохнуть. Но пока не получается.
В апреле и мае буду сотрудничать с замечательными ребятами из БЛИК. 19 и 26 апреля в рамках Мастерской документального кино прочитаю в Вышке две открытых лекции о методах наблюдения и соучастия в документалистике.
Оба раза встречаемся в 18.30.
Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 123, ауд. 402.
Мероприятия открыты, вход свободный для всех, но внешним слушателям нужно заранее (до среды включительно) зарегистрироваться.
А вторая новость еще лучше.
Та же команда устраивает Фестиваль видеоэссе и видеопоэзии, в котором можно принять участие, дедлайн подачи заявок — 1 мая. Все подробности можно прочитать здесь (курировать фестиваль БЛИКу помогает замечательный Максим Селезнев).
Смотр работ пройдет 18-19 мая в Севкабеле и Порядке слов. 18 мая в рамках фестиваля прочитаю еще одну, третью, лекцию — об эссеистике в документальном кино. О ней еще напомню попозже, но уже можно начать что-то планировать.
Будем надеяться, погода к этому моменту стабилизируется, так что тем более захочется субботним днем-вечером отправиться к заливу.
Telegram
БЛИ(К) – док кино
Док про самое близкое
юное объединение авторов
Пишем о документальном кино, делаем Фестиваль видеоэссе в Петербурге https://blikdoc.space/
💌 @vitalinazakharova
юное объединение авторов
Пишем о документальном кино, делаем Фестиваль видеоэссе в Петербурге https://blikdoc.space/
💌 @vitalinazakharova
🔥20❤9👍5
Приготовьте ваши дизлайки.
Мне не понравился новый фильм Алекса Гарленда. Точнее — я почувствовала себя немного обманутой и разочарованной, выйдя из зала.
По сути Гражданская война (в российском прокате — Падение империи) — роуд муви о группе журналистов (набор персонажей банален до неприличия — женщина, мужчина, девочка, дед), отправляющихся в Вашингтон, чтобы взять комментарий у президента, пока повстанцы не добрались до Белого дома. Фон путешествия — финальный этап гражданской войны (не исторической, а гипотетической), с танками, пальбой вдалеке, кордонами и мародерством. Помимо эффектной постановки Гарленда хвалят за две вещи: смелый выбор темы (1) и нежелание угодить ни одной из двух американских политических партий (2). И поскольку Civil War обсуждают не только как хороший экшн, но и как политический феномен, не могу не отметить, что как раз концептуально фильм кажется довольно сомнительным.
Непартийность Гарленда, так смутившая некоторых американских критиков, конечно, импонирует. Но ее недостаточно. Следом ждешь ещё какой-нибудь разворот: ведь отказ мыслить чёрно-белыми категориями интересен ради авторского серого оттенка, а не потому, что позволяет не мыслить вовсе. Но именно это, как мне представляется, происходит в Civil War — неплохо скроенном жанровом фильме, с амбициозным сеттингом, который Гарленду на самом деле не по зубам. Гражданская война здесь — кликбейтный заголовок. Не обладает никакой спецификой, выходит не политической, а такой же условной, как типичные для американских антиутопий войны всех против всех за канистру бензина. В итоге оказывается совершенно неважно, что спровоцировало неконтролируемый всесторонний террор: распространение грибных спор, инопланетное вторжение или внутренний политический конфликт. Замени одно на другое — ни в сюжете, ни в героях ничего не изменится.
Но оригинальное название и повсеместные разговоры о смелости проекта как будто настраивают совсем на другое. Отказ делить героев на плохих и хороших похвален и совершенно понятен, но как-то фрустрирует, что гражданская война (а не абстрактная угроза) в конкретной (а не вымышленной) стране остается в итоге лишь скудно проработанным лором — нет ни идей о ее возможных причинах, ни предположений о ее потенциальных акторах (хорошо, есть президент как важная фигура, а куда делись все магнаты? кому теперь принадлежит NYT? где, зачем и для кого журналисты хотят опубликовать материал, за которым отправились, кто им платит за работу? почему у героини, многое повидавшей, на подступах к Капитолию все-таки случается паническая атака?). Так много вопросов, но ответ на все максимально общий: миру — *. Может, и так, но не сказать, что ради такого вывода очень нужен был новый фильм.
В каком-то смысле превращение Civil War в Падение империи (получается что-то из области Звездных войн) в российском прокате даже на руку Гарленду — позволяет снять с режиссера ответственность, которую тот явно не тянет. И попади он, не дай бог, на разговор к герою Джесси Племонса, тоже, боюсь, не нашёлся бы, что ответить.
— Я просто режиссёр.
— So what? Which kind?
(бесспорно лучший эпизод фильма)
Мне не понравился новый фильм Алекса Гарленда. Точнее — я почувствовала себя немного обманутой и разочарованной, выйдя из зала.
По сути Гражданская война (в российском прокате — Падение империи) — роуд муви о группе журналистов (набор персонажей банален до неприличия — женщина, мужчина, девочка, дед), отправляющихся в Вашингтон, чтобы взять комментарий у президента, пока повстанцы не добрались до Белого дома. Фон путешествия — финальный этап гражданской войны (не исторической, а гипотетической), с танками, пальбой вдалеке, кордонами и мародерством. Помимо эффектной постановки Гарленда хвалят за две вещи: смелый выбор темы (1) и нежелание угодить ни одной из двух американских политических партий (2). И поскольку Civil War обсуждают не только как хороший экшн, но и как политический феномен, не могу не отметить, что как раз концептуально фильм кажется довольно сомнительным.
Непартийность Гарленда, так смутившая некоторых американских критиков, конечно, импонирует. Но ее недостаточно. Следом ждешь ещё какой-нибудь разворот: ведь отказ мыслить чёрно-белыми категориями интересен ради авторского серого оттенка, а не потому, что позволяет не мыслить вовсе. Но именно это, как мне представляется, происходит в Civil War — неплохо скроенном жанровом фильме, с амбициозным сеттингом, который Гарленду на самом деле не по зубам. Гражданская война здесь — кликбейтный заголовок. Не обладает никакой спецификой, выходит не политической, а такой же условной, как типичные для американских антиутопий войны всех против всех за канистру бензина. В итоге оказывается совершенно неважно, что спровоцировало неконтролируемый всесторонний террор: распространение грибных спор, инопланетное вторжение или внутренний политический конфликт. Замени одно на другое — ни в сюжете, ни в героях ничего не изменится.
Но оригинальное название и повсеместные разговоры о смелости проекта как будто настраивают совсем на другое. Отказ делить героев на плохих и хороших похвален и совершенно понятен, но как-то фрустрирует, что гражданская война (а не абстрактная угроза) в конкретной (а не вымышленной) стране остается в итоге лишь скудно проработанным лором — нет ни идей о ее возможных причинах, ни предположений о ее потенциальных акторах (хорошо, есть президент как важная фигура, а куда делись все магнаты? кому теперь принадлежит NYT? где, зачем и для кого журналисты хотят опубликовать материал, за которым отправились, кто им платит за работу? почему у героини, многое повидавшей, на подступах к Капитолию все-таки случается паническая атака?). Так много вопросов, но ответ на все максимально общий: миру — *. Может, и так, но не сказать, что ради такого вывода очень нужен был новый фильм.
В каком-то смысле превращение Civil War в Падение империи (получается что-то из области Звездных войн) в российском прокате даже на руку Гарленду — позволяет снять с режиссера ответственность, которую тот явно не тянет. И попади он, не дай бог, на разговор к герою Джесси Племонса, тоже, боюсь, не нашёлся бы, что ответить.
— Я просто режиссёр.
— So what? Which kind?
(бесспорно лучший эпизод фильма)
👏16🫡9❤7👍2🤔1🤡1
В последние годы я стала куда меньше времени посвящать чтению философских текстов, но один удерживала в памяти и все выбирала время, чтобы к нему обратиться. Это курс лекций Мишеля Фуко Герменевтика субъекта. Что-то про него я знала заранее — например, основной концепт заботы о себе, который там, с опорой на эллинистических философов, противопоставляется самопознанию. Мне импонировало именно это различие — указание на то, что субъект творит, обретает, растит себя не (с)только за счет познавательной способности, но благодаря комплексному праксису, упражнениям духа, которые помогают в самом себе найти точку и оставаться неподвижным по отношению к ней. Забота о себе есть:
Несмотря на нежное слово забота, Фуко описывает ее осуществление как нечто, требующее непреходящего усилия (на манер чеховского молоточка):
И я — тоскливая, в последние годы часто слабеющая от тревоги и растерянности — намеревалась отыскать в книге что-то вроде рецепта, руководства к действию. И, удивительное дело, что-то похожее там обнаружилось. Не буду, конечно, пересказывать всю книгу, но кое-какие особенно затронувшие меня моменты хочется зафиксировать.
Во-первых, в тексте я нашла объяснение своей фрустрации от потребления философских текстов. Фуко описывает знание, не связанное с заботой о себе, как бесконечное движение вперед, пределов которому не видать. Оно меня и угнетает. Полезное знание, даже направленное с виду на нечто внешнее, напротив, должно сказаться на субъекте, что-то в нем сдвинуть:
Во-вторых, в Герменевтике субъекта есть мысль, пересекающаяся с деятельным творением отсутствия (Штейрль), после которого только и можно что-то построить: смысл в том, что для обращения взгляда к себе, субъекту необходимо сперва расчистить территорию — соблюдать гигиену своего тела (диететика), хозяйства (экономика) и отношений с людьми (эротика). Это еще не сама забота о себе, но необходимый этап подготовки к ней.
В-третьих, важнейшей мыслью Фуко мне кажется понимание заботы о себе как привилегии — в том числе, классовой. В том, чтобы заботиться о себе, есть христианская всеобщность призыва (потенциально любой может заботиться о себе) и исключительность спасения (фактически это сможет не любой). Но последняя связана не только с какой-то личной слабостью, несостоятельностью, леностью, — но и с социальным устройством, в котором не у каждого есть достаточно времени, автономии и покоя, чтобы практиковать заботу о себе.
Наконец, по тексту действительно рассыпан целый набор упражнений, которые сформулированы достаточно конкретно, чтобы их практиковать: проводить перед сном и после выслушанных речей досмотр души; смотря на любимое, всегда говорить себе, что завтра оно может быть утрачено; беречь память:
И, наконец, упражнение, некоторым образом объясняющее наше с вами стремление вести тг-каналы:
«…способ непрестанного преобразования истинных речей, глубоко укорененных в субъекте, в морально приемлемые принципы поведения... среда преобразования логоса в этос»
Несмотря на нежное слово забота, Фуко описывает ее осуществление как нечто, требующее непреходящего усилия (на манер чеховского молоточка):
«Забота о себе – это что-то вроде жала, которое должно войти в человеческое тело, все время напоминать о себе, зудеть, не давать покоя»
И я — тоскливая, в последние годы часто слабеющая от тревоги и растерянности — намеревалась отыскать в книге что-то вроде рецепта, руководства к действию. И, удивительное дело, что-то похожее там обнаружилось. Не буду, конечно, пересказывать всю книгу, но кое-какие особенно затронувшие меня моменты хочется зафиксировать.
Во-первых, в тексте я нашла объяснение своей фрустрации от потребления философских текстов. Фуко описывает знание, не связанное с заботой о себе, как бесконечное движение вперед, пределов которому не видать. Оно меня и угнетает. Полезное знание, даже направленное с виду на нечто внешнее, напротив, должно сказаться на субъекте, что-то в нем сдвинуть:
«Считается, что нужно, чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить право на доступ к истине»
Во-вторых, в Герменевтике субъекта есть мысль, пересекающаяся с деятельным творением отсутствия (Штейрль), после которого только и можно что-то построить: смысл в том, что для обращения взгляда к себе, субъекту необходимо сперва расчистить территорию — соблюдать гигиену своего тела (диететика), хозяйства (экономика) и отношений с людьми (эротика). Это еще не сама забота о себе, но необходимый этап подготовки к ней.
В-третьих, важнейшей мыслью Фуко мне кажется понимание заботы о себе как привилегии — в том числе, классовой. В том, чтобы заботиться о себе, есть христианская всеобщность призыва (потенциально любой может заботиться о себе) и исключительность спасения (фактически это сможет не любой). Но последняя связана не только с какой-то личной слабостью, несостоятельностью, леностью, — но и с социальным устройством, в котором не у каждого есть достаточно времени, автономии и покоя, чтобы практиковать заботу о себе.
Наконец, по тексту действительно рассыпан целый набор упражнений, которые сформулированы достаточно конкретно, чтобы их практиковать: проводить перед сном и после выслушанных речей досмотр души; смотря на любимое, всегда говорить себе, что завтра оно может быть утрачено; беречь память:
«Можно сказать, что память – это способ существования того, чего уже нет. И ровно в такой мере она обеспечивает нашу подлинную независимость и власть над собой; мы всегда можем, говорит Сенека, прогуливаться по тропинкам нашей памяти»
И, наконец, упражнение, некоторым образом объясняющее наше с вами стремление вести тг-каналы:
«Чтение будет неразрывно связано с письмом… очень большое место, в ней занимает письмо, некоторым образом личное, индивидуальное. Сенека говорил, что надо чередовать чтение и письмо. Нельзя все время только читать или только писать: если без конца пишешь, в конце концов обессилишь. Чтение, напротив, рассеивает и расслабляет. Нужно умерять одно другим, переходить от одного к другому так, чтобы собранное за чтением превращалось с помощью письма в нечто существенное… Ибо сам факт записи помогает разобраться с тем, о чем думаешь»
❤42👍7🔥4❤🔥2👏1
Дебютировала в подкасте!
Илья Верхоглядов и Роман Волынский — кинокритики, ведущие канала Сиди и Смотри — пригласили обсудить пограничные формы кино: мокьюментари и документалистику, задействующую постановку в качестве метода. Говорим про Первых на луне, Акт убийства и проекты Саши Барона Коэна (доказываю, что Бората и Кто есть Америка? можно смотреть как документальное кино). Послушать можно здесь. Говорят, выпуск получился рекордно длинным, не знаю, хорошо это или плохо, но очень надеюсь, что в любом случае интересно.
Илья Верхоглядов и Роман Волынский — кинокритики, ведущие канала Сиди и Смотри — пригласили обсудить пограничные формы кино: мокьюментари и документалистику, задействующую постановку в качестве метода. Говорим про Первых на луне, Акт убийства и проекты Саши Барона Коэна (доказываю, что Бората и Кто есть Америка? можно смотреть как документальное кино). Послушать можно здесь. Говорят, выпуск получился рекордно длинным, не знаю, хорошо это или плохо, но очень надеюсь, что в любом случае интересно.
Telegram
Подкаст «Сиди и смотри»
Закадровые голоса обсуждают кино. И делятся своими публикациями о фильмах/сериалах.
Мы — Роман Волынский и Илья Верхоглядов — молодые кинокритики, выпускники теории кино СПбГУ.
Подкаст: https://podcast.ru/1511406018
Контакт: @romanevol, @ilya_verh
Мы — Роман Волынский и Илья Верхоглядов — молодые кинокритики, выпускники теории кино СПбГУ.
Подкаст: https://podcast.ru/1511406018
Контакт: @romanevol, @ilya_verh
❤44🔥9❤🔥5👍2👏2😁1
Несколько месяцев назад мой товарищ затеял небольшой опрос о книгах и писателях, которые сильнее всего повлияли на его друзей. Не просто понравились или полюбились, а что-то сдвинули в личности — в планах, характере, образе жизни. В числе главных таких авторов я тогда без лишних раздумий назвала Сьюзен Сонтаг, вспомнив даже не как лет десять назад впервые открыла Против интерпретации, а знаменитую седую прядь ее темных волос, снимок в заваленном книгами и бумагами кабинете и суровое, не скорое на улыбку лицо, на котором фотографы обычно не ретушировали ни морщины, ни мешки под глазами. Часто думаю о том, что благодаря Сонтаг я совершенно не боюсь стареть: женщине, которой я восхищаюсь, на вид будто бы всегда было немного за сорок, а то и за пятьдесят.
Дочитав только что вышедший на русском сборник с изящным названием Под ударением, сперва почувствовала себя немного обманутой. Это действительно коллекция самых необязательных, вынужденных ее статей — в основном предисловий и славословий (исключение — объемный портрет Ролана Барта и чуткий комментарий к Зебальду). Но надо отдать должное составителям: каким-то чудом им удалось из обрезков выстроить лейтмотив, да еще и донельзя сейчас востребованный — про позицию автора, автобиографические мотивы, роль писателя. Впрочем, все подробности после прочтения из памяти улетучились, разве что афористическая цитата осталась:
Но все же я никак не могу сказать, что разочарована. Хотя бы потому, что, попытавшись сравнить эти тексты с другими ее сборниками, я подумала, что и в тех содержательно находила для себя не так уж много. Дело не в том, что письмо Сонтаг пусто, просто его наполнение по итогам прочтения не обязательно уносить с собой — так бывает после хорошей беседы, из которой только и можешь потом припомнить, каким славным был вечер.
Мои отношения с Сонтаг всегда были не столько про тексты, сколько про образ, который в свое время стал для меня ориентиром. Не хотелось писать, как она, но хотелось такой быть. В числе прочего, сделать вкус, знания и письмо своими профессиональными инструментами; практиковать феминизм, не будучи политической активисткой; вынести из академии лучшее, что она может дать, но сберечь автономию независимой исследовательницы. Словом, Сонтаг заняла в моем мире место следовательниц и адвокатесс из голливудских фильмов, чьи образы так будоражили меня в детские годы, и подарила новую мечту, план, ответ на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Так что спроси меня, что именно стоит читать у Сонтаг, и я скажу: дневники.
Пост, в общем, получился не про книгу, а про мое пристрастие. Закончу его соответствующим образом. Давно искала повод опубликовать кадр из документального фильма о Сонтаг, который некогда был кандидатом на фото обложки в этом канале. Вот он, повод, нашелся:
Дочитав только что вышедший на русском сборник с изящным названием Под ударением, сперва почувствовала себя немного обманутой. Это действительно коллекция самых необязательных, вынужденных ее статей — в основном предисловий и славословий (исключение — объемный портрет Ролана Барта и чуткий комментарий к Зебальду). Но надо отдать должное составителям: каким-то чудом им удалось из обрезков выстроить лейтмотив, да еще и донельзя сейчас востребованный — про позицию автора, автобиографические мотивы, роль писателя. Впрочем, все подробности после прочтения из памяти улетучились, разве что афористическая цитата осталась:
Жизнь, когда она не есть школа бессердечия, — это воспитание сочувствия.
Но все же я никак не могу сказать, что разочарована. Хотя бы потому, что, попытавшись сравнить эти тексты с другими ее сборниками, я подумала, что и в тех содержательно находила для себя не так уж много. Дело не в том, что письмо Сонтаг пусто, просто его наполнение по итогам прочтения не обязательно уносить с собой — так бывает после хорошей беседы, из которой только и можешь потом припомнить, каким славным был вечер.
Мои отношения с Сонтаг всегда были не столько про тексты, сколько про образ, который в свое время стал для меня ориентиром. Не хотелось писать, как она, но хотелось такой быть. В числе прочего, сделать вкус, знания и письмо своими профессиональными инструментами; практиковать феминизм, не будучи политической активисткой; вынести из академии лучшее, что она может дать, но сберечь автономию независимой исследовательницы. Словом, Сонтаг заняла в моем мире место следовательниц и адвокатесс из голливудских фильмов, чьи образы так будоражили меня в детские годы, и подарила новую мечту, план, ответ на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Так что спроси меня, что именно стоит читать у Сонтаг, и я скажу: дневники.
Пост, в общем, получился не про книгу, а про мое пристрастие. Закончу его соответствующим образом. Давно искала повод опубликовать кадр из документального фильма о Сонтаг, который некогда был кандидатом на фото обложки в этом канале. Вот он, повод, нашелся:
❤51👍6🥰6🫡1
Напоминаю, что 17-19 мая в Севкабеле и Порядке слов пройдет Фестиваль видеоэссе и видеопоэзии, организованный сообществом БЛИК!
Где бы вы ни были, присоединяйтесь в пятницу к онлайн-лекции Максима Селезнева, чтобы послушать, как сегодня видеоэссе обитает повсюду. За годы дружбы и общения я уже вполне привыкла к тому, как широко Максим мыслит эссеистические практики, но у тех, кто с этими рассуждениями не знаком, может немножко перевернуться мир.
Также напоминаю, что в субботу в 18.30 поговорю немного на площадке лекторий`порт о том, как эссеистическую форму перенимает документалистика, чтобы, по заветам Делеза, скорее ставить проблему, чем спешить с готовым и однозначным решением.
И, конечно, программы интригуют.
Вход везде свободный, но по регистрации:
18 мая — лекторий’ порт
19 мая — Порядок слов
Где бы вы ни были, присоединяйтесь в пятницу к онлайн-лекции Максима Селезнева, чтобы послушать, как сегодня видеоэссе обитает повсюду. За годы дружбы и общения я уже вполне привыкла к тому, как широко Максим мыслит эссеистические практики, но у тех, кто с этими рассуждениями не знаком, может немножко перевернуться мир.
Также напоминаю, что в субботу в 18.30 поговорю немного на площадке лекторий`порт о том, как эссеистическую форму перенимает документалистика, чтобы, по заветам Делеза, скорее ставить проблему, чем спешить с готовым и однозначным решением.
И, конечно, программы интригуют.
Вход везде свободный, но по регистрации:
18 мая — лекторий’ порт
19 мая — Порядок слов
❤🔥24