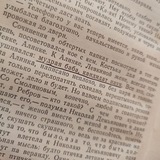Такая новость:
запускаем в Доме кино Лабораторию критического письма!
Если наберем группу, то с 30 сентября по 9 декабря проведу для ее участников очные встречи в Петербурге — лекции, читательские семинары и практические занятия. Это ни в коем случае не мастерская, а именно лаборатория, где я создам условия для размышления о ваших личных отношениях с письмом, познакомлю с текстами прекрасных авторов разных эпох, научу с удовольствием и пользой для себя их читать и обсуждать, расскажу о подходах к (кино)критике и вместе с действующими редакторами дам чуткий и подробный комментарий к текстам, которые вы создадите за время нашей совместной работы.
Подробная информация о курсе (аннотация, описание занятий, предполагаемые результаты, условия) и ссылка на покупку абонемента вот здесь.
Задумана скидка для студентов, а еще — открытая первая встреча, на которую можно прийти и пообщаться прежде, чем принимать решение.
По всем вопросам можно писать @hitheredi или мне лично, если мы уже знакомы)
запускаем в Доме кино Лабораторию критического письма!
Если наберем группу, то с 30 сентября по 9 декабря проведу для ее участников очные встречи в Петербурге — лекции, читательские семинары и практические занятия. Это ни в коем случае не мастерская, а именно лаборатория, где я создам условия для размышления о ваших личных отношениях с письмом, познакомлю с текстами прекрасных авторов разных эпох, научу с удовольствием и пользой для себя их читать и обсуждать, расскажу о подходах к (кино)критике и вместе с действующими редакторами дам чуткий и подробный комментарий к текстам, которые вы создадите за время нашей совместной работы.
Подробная информация о курсе (аннотация, описание занятий, предполагаемые результаты, условия) и ссылка на покупку абонемента вот здесь.
Задумана скидка для студентов, а еще — открытая первая встреча, на которую можно прийти и пообщаться прежде, чем принимать решение.
По всем вопросам можно писать @hitheredi или мне лично, если мы уже знакомы)
❤🔥38🔥9👍6🥰4❤2
Написала для Сеанса о Субстанции, которая буквально сегодня вышла в прокат. У меня к фильму Корали Фаржа куда больше вопросов, чем у многих критиков и друзей, хотя не пытаюсь отрицать, что сам просмотр был очень насыщенным (идите в кино!). Впечатления зафиксировались ломаной линией, похожу с ними еще какое-то время. Деми Мур — кайф.
Читать здесь.
Вы когда-нибудь завидовали самой себе?
Читать здесь.
Вы когда-нибудь завидовали самой себе?
Журнал «Сеанс»
Смотреть и развидеть — «Субстанция» Корали Фаржа
Боди-хоррор, получивший в Каннах приз за сценарий, вышел в российский прокат. О «Субстанции» с Деми Мур и Маргарет Куэлли говорят прежде всего как о прямом феминистском высказывании, но Дарина Поликарпова предлагает приглядеться к этой шокирующей картине…
🔥32👍10😢2❤🔥1
Летом я впервые за долгое время одна, для себя, пожила в Москве — не спеша, не подстраивая свое пребывание под спутников или друзей. За эти дни неожиданно вспомнила, что вообще-то люблю музеи, и, последовав случайно услышанному перед поездкой совету, пошла в Музей истории ГУЛАГа, где провела в итоге три часа.
(приятельница, с которой мы прогуливались накануне, услышав о таком плане, спросила с удивлением: неужели еще работает этот музей? от естественности, с которой было озвучено это сомнение, стало как-то особенно странно и грустно)
Осваивая недочитанную советскую литературу, я и так все время нахожусь в орбите этой темы: раз прорвав молчание в годы оттепели, она больше никуда не уходила и питала собой бесчисленные тексты, как написанные прямо о личном лагерном опыте (Солженицын, Шаламов, Гинзбург), так и косвенно им вдохновленные (Рыбаков, Приставкин, немного Трифонов). Еще я представительница поколения, которому в школе о репрессиях рассказывали откровенно и честно. Потому от Музея хотелось не информации, а какого-то нового способа разделить эту травму, приблизиться к ней (что не отменяет головокружения от фактичности некоторых документов — например, приказа с утверждением количества подлежащих репрессиям граждан, изданный прежде, чем эти граждане были найдены).
Экспозиция задевает с порога: в первом зале выставлены снятые с петель двери, некогда впускавшие (но далеко не всегда выпускавшие) людей в помещения, связанные с историей репрессий. Одна, например, приехала в Москву из простого колымского барака (подобную ей ежедневно закрывали за Шаламовым), другая раньше вела в торговое помещение многоэтажного дома на Ленинском проспекте, в строительстве которого участвовал заключенный Солженицын, третья — из изолятора, в котором пытали Мейерхольда (в описании к ней, на кованой табличке, строки из его тюремного письма, от которых без преувеличений мутит).
Но лейтмотив выставки все же не двери, а трещины — экспонаты того же зала; из них на каждой дверной поверхности образуется свой рисунок. Так дальше и тянется материальный след: история репрессий воплощается в треснутых крестах, очках, чашках; в фотографиях, на которых от сгибов по выцветшим лицам расползаются паутинки; в рассказах о беззащитной коже, рассохшейся на лагерном морозе, и о коже безвозвратно состарившейся за годы, проведенные в заключении. Словари говорят, что трещина — экстремальный дефект, представляющий собой области с полностью нарушенными связями. Кажется, что-то подобное непременно происходит и с обществом, допустившим и пережившим опыт репрессий, особенно, если преждевременно забросить процесс размышления о них.
В путешествии по экспозиции один эпизод по-настоящему меня ранил, но о нем я не расскажу, чтобы не обезвредить его эффект для будущих посетителей (даже раскаиваюсь, что уже сообщила о нем, не подумав, нескольким близким друзьям).
Вопреки всему, музейный маршрут заканчивается чем-то светлым — выходом в сад, где можно спокойно и тихо провести время, погреться после холодных залов (так и не поняла, концептуально или сезонно они некомфортны для долгого пребывания, но это очень уместно). Хотя мне и там сделалось неуютно — уж слишком шестигранные постройки в центре похожи на дозорные вышки.
***
После Музея я в очередной раз отправилась к Дому на набережной — в одно из самых волнующих меня московских мест. Это по-настоящему нехороший дом, из которого исчезали люди, до того отвечавшие за исчезновение других. Он сам — как трещина между двадцатыми и тридцатыми, конструктивизмом и новой монументальностью, упоением властью и непереносимым унижением от публичного отлучения от нее. Там некогда был крохотный филиал Музея ГУЛАГа, но вот он, кстати, и правда как-то бессрочно закрылся. И все же удалось прошмыгнуть во двор, рассмотреть изнутри памятные таблички, посидеть на скамеечке возле парадной. Специально искала на стенах упоминание Юрия Трифонова — чем больше времени проходит с прочтения Московских повестей, тем острее чувствую, как он превращается для меня в одного из самых любимых и близких писателей.
(приятельница, с которой мы прогуливались накануне, услышав о таком плане, спросила с удивлением: неужели еще работает этот музей? от естественности, с которой было озвучено это сомнение, стало как-то особенно странно и грустно)
Осваивая недочитанную советскую литературу, я и так все время нахожусь в орбите этой темы: раз прорвав молчание в годы оттепели, она больше никуда не уходила и питала собой бесчисленные тексты, как написанные прямо о личном лагерном опыте (Солженицын, Шаламов, Гинзбург), так и косвенно им вдохновленные (Рыбаков, Приставкин, немного Трифонов). Еще я представительница поколения, которому в школе о репрессиях рассказывали откровенно и честно. Потому от Музея хотелось не информации, а какого-то нового способа разделить эту травму, приблизиться к ней (что не отменяет головокружения от фактичности некоторых документов — например, приказа с утверждением количества подлежащих репрессиям граждан, изданный прежде, чем эти граждане были найдены).
Экспозиция задевает с порога: в первом зале выставлены снятые с петель двери, некогда впускавшие (но далеко не всегда выпускавшие) людей в помещения, связанные с историей репрессий. Одна, например, приехала в Москву из простого колымского барака (подобную ей ежедневно закрывали за Шаламовым), другая раньше вела в торговое помещение многоэтажного дома на Ленинском проспекте, в строительстве которого участвовал заключенный Солженицын, третья — из изолятора, в котором пытали Мейерхольда (в описании к ней, на кованой табличке, строки из его тюремного письма, от которых без преувеличений мутит).
Но лейтмотив выставки все же не двери, а трещины — экспонаты того же зала; из них на каждой дверной поверхности образуется свой рисунок. Так дальше и тянется материальный след: история репрессий воплощается в треснутых крестах, очках, чашках; в фотографиях, на которых от сгибов по выцветшим лицам расползаются паутинки; в рассказах о беззащитной коже, рассохшейся на лагерном морозе, и о коже безвозвратно состарившейся за годы, проведенные в заключении. Словари говорят, что трещина — экстремальный дефект, представляющий собой области с полностью нарушенными связями. Кажется, что-то подобное непременно происходит и с обществом, допустившим и пережившим опыт репрессий, особенно, если преждевременно забросить процесс размышления о них.
В путешествии по экспозиции один эпизод по-настоящему меня ранил, но о нем я не расскажу, чтобы не обезвредить его эффект для будущих посетителей (даже раскаиваюсь, что уже сообщила о нем, не подумав, нескольким близким друзьям).
Вопреки всему, музейный маршрут заканчивается чем-то светлым — выходом в сад, где можно спокойно и тихо провести время, погреться после холодных залов (так и не поняла, концептуально или сезонно они некомфортны для долгого пребывания, но это очень уместно). Хотя мне и там сделалось неуютно — уж слишком шестигранные постройки в центре похожи на дозорные вышки.
***
После Музея я в очередной раз отправилась к Дому на набережной — в одно из самых волнующих меня московских мест. Это по-настоящему нехороший дом, из которого исчезали люди, до того отвечавшие за исчезновение других. Он сам — как трещина между двадцатыми и тридцатыми, конструктивизмом и новой монументальностью, упоением властью и непереносимым унижением от публичного отлучения от нее. Там некогда был крохотный филиал Музея ГУЛАГа, но вот он, кстати, и правда как-то бессрочно закрылся. И все же удалось прошмыгнуть во двор, рассмотреть изнутри памятные таблички, посидеть на скамеечке возле парадной. Специально искала на стенах упоминание Юрия Трифонова — чем больше времени проходит с прочтения Московских повестей, тем острее чувствую, как он превращается для меня в одного из самых любимых и близких писателей.
❤38❤🔥10👍3🥱1
Оправдывая название канала, сообщаю, что провела несколько дней в Перми по приглашению Пермской Синематеки (и это был 25-й — юбилейный! — субъект РФ, который довелось посетить).
Предложили приехать, чтоб представить фильм Жизнь (он, кстати, симпатичный — и в прокате со вчерашнего дня) и после сеанса обсудить его со зрителями. Такой формат мне обычно не нравится, и от похожих предложений в Петербурге я очень часто отказываюсь. Перед показом мне неловко отнимать время зрителей, а после просмотра чувствую в разговоре с залом — в попытках немедленно выудить из людей реакции на увиденное — какое-то неприятное взаимное принуждение. Но тут согласилась и в итоге была удивлена.
Фильм Маттиаса Гласнера и без всяких сопроводительных разговоров идет три часа, да и люди собрались вечером буднего дня — но мало, кто ушел, а из оставшихся многие действительно хотели беседовать: кто-то растрогал историей личной утраты, кто-то честно сообщал о трудностях восприятия и готов был в них разбираться, кто-то вспоминал Пруста и Мамардашвили. Даже получилось устроить небольшую полемику, разделившись по поводу финала на оптимистов и пессимистов. Словом, это был прекрасный, теплый и воодушевленный зал, какой встречается разве что на фестивалях и в маленьких киноклубах.
И Пермь прекрасная — чистая, солнечная, холмистая. Выдала мне тизер настоящей осени, пока в Петербурге на деревьях еще зеленые листья. Думая о беззаветной любви к Екатеринбургу, заподозрила: может быть, я так особенно тянусь к Уралу?
Предложили приехать, чтоб представить фильм Жизнь (он, кстати, симпатичный — и в прокате со вчерашнего дня) и после сеанса обсудить его со зрителями. Такой формат мне обычно не нравится, и от похожих предложений в Петербурге я очень часто отказываюсь. Перед показом мне неловко отнимать время зрителей, а после просмотра чувствую в разговоре с залом — в попытках немедленно выудить из людей реакции на увиденное — какое-то неприятное взаимное принуждение. Но тут согласилась и в итоге была удивлена.
Фильм Маттиаса Гласнера и без всяких сопроводительных разговоров идет три часа, да и люди собрались вечером буднего дня — но мало, кто ушел, а из оставшихся многие действительно хотели беседовать: кто-то растрогал историей личной утраты, кто-то честно сообщал о трудностях восприятия и готов был в них разбираться, кто-то вспоминал Пруста и Мамардашвили. Даже получилось устроить небольшую полемику, разделившись по поводу финала на оптимистов и пессимистов. Словом, это был прекрасный, теплый и воодушевленный зал, какой встречается разве что на фестивалях и в маленьких киноклубах.
И Пермь прекрасная — чистая, солнечная, холмистая. Выдала мне тизер настоящей осени, пока в Петербурге на деревьях еще зеленые листья. Думая о беззаветной любви к Екатеринбургу, заподозрила: может быть, я так особенно тянусь к Уралу?
❤🔥30❤12😭4👍2😍2🐳2🔥1🥰1
Принялась было с воодушевлением смотреть Его три дочери, ожидая от фильма, родственного Шепотам и крикам и Интерьерам (три женщины вынужденно собираются вместе, чтобы пережить семейную трагедию), любимой угловатой интонации американского независимого кино. Новая работа Азазеля Джейкобса могла бы расположиться где-то по соседству с прошлогодними Взрослыми — там тоже трое (!) сиблингов с переменным успехом преодолевали неловкость от первой волны сближения. Но фильм совсем не понравился: слишком напоминает разговорный камерный спектакль и, главное, актерски выходит каким-то совершенно не харизматичным. Критики хором очаровываются исполнительницами главных ролей, но мне все жесты и реплики Элизабет Олсен, Кэрри Кун и (особенно) Наташи Леон кажутся составленными из сплошных неточных нот — слишком сильно они пучат глаза, очень деланными выходят их неловкие улыбки и вымученными раздраженные жесты. Эта фальшь так заметна из-за того, что актрисы существуют в совершенно удивительной, совсем не декоративной квартире, где происходит все действие, — светлой, теплой, ткано-деревянной, полной всегда к месту появляющихся в кадре деталей, которые невозможно навязать пространству нарочно. Она тут живее и натуральнее любого из актерских лиц — светлые стены сдержанно, размеренно меняют оттенок, вверяясь движению солнца. Весь просмотр любовалась квартирой, как каким-нибудь зачаровывающим пейзажем, один вид которого вселяет покой и нежность, даже если нет шансов в нем оказаться.
Но! Удачно вспомнила за просмотром другой фильм Азазеля Джейкобса, который видела года три назад, в эпоху только что оформленной подписки на mubi (о, этот первый счастливый месяц, когда еще обещаешь себе часто ей пользоваться). Называется Маменькин мужчина (2008). Вообще-то Азазель — сын Кена Джейкобса, знаменитого режиссера экспериментального кино, одного из главных представителей послевоенного нью-йоркского авангарда. И в Маменькином мужчине появляются и Кен, и мать Азазеля, Флу Джейкобс. По сути, они играют самих себя — (не)стареющую пару художников, живущую в лофте богемного манхеттенского района. По сюжету к ним ненадолго заезжает уже взрослый сын — и здесь сложно отделаться от ощущения, что мы смотрим очень личную историю, хотя Азазель и не решается сам сыграть главного героя — но каждое утро придумывает новую причину задержаться еще на день в родительском доме. Фильм совершенно флегматичный, аморфный — превосходно схватывающий молчаливое, глубоко депрессивное состояние, вроде того, что в конце Полетов во сне и наяву буквализирует герой Олега Янковского, свернувшийся калачиком в стоге сена. Ровно так персонаж Маменькиного мужчины укладывается где-то среди коробок, картин и загадочных киноприборов, как последний мудак игнорирует звонки от только что родившей жены и коллег — никому ничего не объясняя, предается тихой регрессии. По-моему, это один из самых точных фильмов об апатии: желании стать невидимым, влезть обратно в утробу и хоть недолго пожить так, будто тебя не существует.
В общем, вместо Его три дочери советую посмотреть Маменькиного мужчину. Там, кстати, тоже есть привязанность к живому пространству — хотя секрет его подлинности, очевидно, в том, что это реальный дом Джейкобсов.
Но! Удачно вспомнила за просмотром другой фильм Азазеля Джейкобса, который видела года три назад, в эпоху только что оформленной подписки на mubi (о, этот первый счастливый месяц, когда еще обещаешь себе часто ей пользоваться). Называется Маменькин мужчина (2008). Вообще-то Азазель — сын Кена Джейкобса, знаменитого режиссера экспериментального кино, одного из главных представителей послевоенного нью-йоркского авангарда. И в Маменькином мужчине появляются и Кен, и мать Азазеля, Флу Джейкобс. По сути, они играют самих себя — (не)стареющую пару художников, живущую в лофте богемного манхеттенского района. По сюжету к ним ненадолго заезжает уже взрослый сын — и здесь сложно отделаться от ощущения, что мы смотрим очень личную историю, хотя Азазель и не решается сам сыграть главного героя — но каждое утро придумывает новую причину задержаться еще на день в родительском доме. Фильм совершенно флегматичный, аморфный — превосходно схватывающий молчаливое, глубоко депрессивное состояние, вроде того, что в конце Полетов во сне и наяву буквализирует герой Олега Янковского, свернувшийся калачиком в стоге сена. Ровно так персонаж Маменькиного мужчины укладывается где-то среди коробок, картин и загадочных киноприборов, как последний мудак игнорирует звонки от только что родившей жены и коллег — никому ничего не объясняя, предается тихой регрессии. По-моему, это один из самых точных фильмов об апатии: желании стать невидимым, влезть обратно в утробу и хоть недолго пожить так, будто тебя не существует.
В общем, вместо Его три дочери советую посмотреть Маменькиного мужчину. Там, кстати, тоже есть привязанность к живому пространству — хотя секрет его подлинности, очевидно, в том, что это реальный дом Джейкобсов.
❤17👍4🤔2