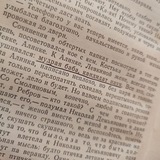Я тут уже не первый раз порываюсь рассказать, как увлеклась в последний год советской литературой, и описать, что такого важного в ней для себя нахожу, но чувствую, что для отдельных наблюдений нужен какой-то контекст. Поэтому начну разворачивать эту тему сильно издалека — с признания в том, насколько плохо я до сих пор ориентировалась в этом поле.
Отчего-то в школе все интригующие тексты из курса литературы заканчивались Серебряным веком, а в университете новый интерес к прозе прежде всего уводил за границу. Были, конечно, отдельные авторы — Булгаков, Маяковский, Довлатов, Битов, Ерофеев, Сорокин — которые обаяли раньше, без погружения в контекст, но это острова, одиночки. Проблема в том, что долгое время у меня не существовало никакого представления о советской литературе как комплексном, сложносоставном явлении — в котором есть писательские организации и толстые журналы, сам- и тамиздат, большая и малая проза, поэзия, публицистика, писатели с премиями, писатели андеграундные, писатели-эмигранты и писатели-арестанты. Но главное: вопреки различиям в судьбах и опытах, есть у всех этих литераторов разделенная реальность, которую каждый пытается освоить, описать, пересобрать и пересочинить, не утрачивая, между тем, с ней связи. Более того, эта связь ощущается как важнейший оттенок любого частного высказывания: герой советской литературы похож на сейсмограф — всегда чуток к тому, что происходит вокруг. Персонаж начала пятидесятых, даже без оглядки на личные обстоятельства, не будет равен себе в конце того же десятилетия — что уж говорить о героях разных поколений.
На судьбы отдельных людей, как шрамы, наносятся резкие скачки эпох (они в России, видимо, обречены быть только такими). И тут проявляется одно из качеств советской литературы, которое страшно меня увлекает: писателям часто интересен не герой времени, которое ему совершенно впору, а человек на сгибе, в складке, в катаклизме — этими временами сжатый. Безыдейная сиротка учится жить своей жизнью, участвуя в коллективной стройке двадцатых (Наши знакомые), идеалиста первого постреволюционного десятилетия ломает реальность второго (Крутой маршрут, Дети Арбата), мечтательный шестидесятник не уживается с мещанским благополучием брежневской эпохи (Юрий Трифонов, Владимир Маканин).
Такое понимание отношений между человеком и его страной, его эпохой, очень чутко в одном интервью сформулировала Генриетта Яновская, высказываясь уже о девяностых:
Пожалуй, это характерное для советского искусства переживание создавало раньше ложное представление о каком-то его искусственно коллективистском духе. Но пусть персонажи действительно демонстрируют обусловленность своего характера временем, едва ли здесь уместно говорить об унификации. Напротив: одни и те же обстоятельства рождают разные характеры, это даже можно счесть за типичный для советской литературы прием — противоречия становится заметнее в чем-то подчеркнуто гомогенном. У Анатолия Рыбакова судьбы молодых людей из переулков Арбата от одного удара разлетаются в разные стороны, как осколки разбитой вазы; Иду на грозу Даниила Гранина — это десяток портретов ученых-физиков оттепельной эпохи; В круге первом Солженицына – опись ни в чем не схожих мировоззрений, тем не менее выложенных на нарах в ряд.
В общем, последние пару лет я самостоятельно веду беседы со всеми этими советскими общностями и различиями, людьми и эпохами, идеалистами и прагматиками, романтиками и мещанами, этиками и политиками, физиками и лириками — и горизонт чтения, к счастью, все еще не просматривается. Надеюсь научиться лаконично, но своевременно оставлять заметки о конкретных прочтениях, но пока что могу поделиться только таким обобщением — и цитатами, вдруг уже они сами по себе кого-нибудь увлекут интонационным разнообразием.
Отчего-то в школе все интригующие тексты из курса литературы заканчивались Серебряным веком, а в университете новый интерес к прозе прежде всего уводил за границу. Были, конечно, отдельные авторы — Булгаков, Маяковский, Довлатов, Битов, Ерофеев, Сорокин — которые обаяли раньше, без погружения в контекст, но это острова, одиночки. Проблема в том, что долгое время у меня не существовало никакого представления о советской литературе как комплексном, сложносоставном явлении — в котором есть писательские организации и толстые журналы, сам- и тамиздат, большая и малая проза, поэзия, публицистика, писатели с премиями, писатели андеграундные, писатели-эмигранты и писатели-арестанты. Но главное: вопреки различиям в судьбах и опытах, есть у всех этих литераторов разделенная реальность, которую каждый пытается освоить, описать, пересобрать и пересочинить, не утрачивая, между тем, с ней связи. Более того, эта связь ощущается как важнейший оттенок любого частного высказывания: герой советской литературы похож на сейсмограф — всегда чуток к тому, что происходит вокруг. Персонаж начала пятидесятых, даже без оглядки на личные обстоятельства, не будет равен себе в конце того же десятилетия — что уж говорить о героях разных поколений.
На судьбы отдельных людей, как шрамы, наносятся резкие скачки эпох (они в России, видимо, обречены быть только такими). И тут проявляется одно из качеств советской литературы, которое страшно меня увлекает: писателям часто интересен не герой времени, которое ему совершенно впору, а человек на сгибе, в складке, в катаклизме — этими временами сжатый. Безыдейная сиротка учится жить своей жизнью, участвуя в коллективной стройке двадцатых (Наши знакомые), идеалиста первого постреволюционного десятилетия ломает реальность второго (Крутой маршрут, Дети Арбата), мечтательный шестидесятник не уживается с мещанским благополучием брежневской эпохи (Юрий Трифонов, Владимир Маканин).
Такое понимание отношений между человеком и его страной, его эпохой, очень чутко в одном интервью сформулировала Генриетта Яновская, высказываясь уже о девяностых:
«Я отношусь к тому поколению, для которого события в стране являются также и событиями в частной жизни».
Пожалуй, это характерное для советского искусства переживание создавало раньше ложное представление о каком-то его искусственно коллективистском духе. Но пусть персонажи действительно демонстрируют обусловленность своего характера временем, едва ли здесь уместно говорить об унификации. Напротив: одни и те же обстоятельства рождают разные характеры, это даже можно счесть за типичный для советской литературы прием — противоречия становится заметнее в чем-то подчеркнуто гомогенном. У Анатолия Рыбакова судьбы молодых людей из переулков Арбата от одного удара разлетаются в разные стороны, как осколки разбитой вазы; Иду на грозу Даниила Гранина — это десяток портретов ученых-физиков оттепельной эпохи; В круге первом Солженицына – опись ни в чем не схожих мировоззрений, тем не менее выложенных на нарах в ряд.
В общем, последние пару лет я самостоятельно веду беседы со всеми этими советскими общностями и различиями, людьми и эпохами, идеалистами и прагматиками, романтиками и мещанами, этиками и политиками, физиками и лириками — и горизонт чтения, к счастью, все еще не просматривается. Надеюсь научиться лаконично, но своевременно оставлять заметки о конкретных прочтениях, но пока что могу поделиться только таким обобщением — и цитатами, вдруг уже они сами по себе кого-нибудь увлекут интонационным разнообразием.
❤31👍6❤🔥2🔥1
Владимир Маканин, Один и одна
Юрий Герман, Наши знакомые
Василий Аксенов, Звездный билет
Юрий Герман, Наши знакомые
Василий Аксенов, Звездный билет
❤35❤🔥3
На сайте журнала Новое литературное обозрение выложили дебютный номер 2025 года -- и в нём моя первая за долгое время научная статья, написанная по приглашению Андрея Фоменко (кстати, советую подписаться на его канал про искусство и музейные практики!).
Я вообще очень редко пишу тексты в научные журналы: какие-то новые и стоящие идеи раз в год в голову не приходят, делать что-то для отчётности мне не нужно, тасовать всем известные понятия не интересно. Но в этом случае давно была придумана тема, которая именно требовала фиксации теоретического концепта. Его, как своего рода изобретение, сначала хотелось предложить исследовательскому сообществу, а уже потом двигать дальше.
Предлагаю подумать об экстрафильмическом -- элементах и практиках, которые всегда сопровождают наш просмотр фильма, но не принадлежат ему, а привносятся процессом демонстрации: ставятся рядом, наносятся поверх. В частности, меня интересовало, как такие элементы помогают определить специфику просмотра, насытить его локальным контекстом. Проще говоря: можно думать, что в любое время и в любом месте мы смотрим один и тот же фильм, но в реальности мы всегда имеем дело с какой-то особенной конфигурацией внешних к нему факторов, влияющих, тем не менее, на опыт, который нам запоминается. Из повторяемости одной такой конфигурации вырастают со временем практики просмотра, которые могут быть не только частным случаем, но даже определить эпоху -- придать ей узнаваемый характер. Так, например, было с одноголосыми переводами в позднем СССР и России 90-х. И сейчас, предположу, мы имеем дело с формированием столь же уникального набора экстрафильмических элементов, по которым, спустя время, историки будут опознавать наше время -- например, курьезное предсеансовое обслуживание, блюры, чёрные экраны с предупредительными титрами о вырезанных минутах и так далее. Обо всём этом подробно пишу в статье, ссылаясь на Тарантино, Лору Маркс и Жерара Женетта.
Тема только заявлена, буду счастлива, если на неё откликнутся другие исследователи. Полный текст можно прочитать здесь.
Я вообще очень редко пишу тексты в научные журналы: какие-то новые и стоящие идеи раз в год в голову не приходят, делать что-то для отчётности мне не нужно, тасовать всем известные понятия не интересно. Но в этом случае давно была придумана тема, которая именно требовала фиксации теоретического концепта. Его, как своего рода изобретение, сначала хотелось предложить исследовательскому сообществу, а уже потом двигать дальше.
Предлагаю подумать об экстрафильмическом -- элементах и практиках, которые всегда сопровождают наш просмотр фильма, но не принадлежат ему, а привносятся процессом демонстрации: ставятся рядом, наносятся поверх. В частности, меня интересовало, как такие элементы помогают определить специфику просмотра, насытить его локальным контекстом. Проще говоря: можно думать, что в любое время и в любом месте мы смотрим один и тот же фильм, но в реальности мы всегда имеем дело с какой-то особенной конфигурацией внешних к нему факторов, влияющих, тем не менее, на опыт, который нам запоминается. Из повторяемости одной такой конфигурации вырастают со временем практики просмотра, которые могут быть не только частным случаем, но даже определить эпоху -- придать ей узнаваемый характер. Так, например, было с одноголосыми переводами в позднем СССР и России 90-х. И сейчас, предположу, мы имеем дело с формированием столь же уникального набора экстрафильмических элементов, по которым, спустя время, историки будут опознавать наше время -- например, курьезное предсеансовое обслуживание, блюры, чёрные экраны с предупредительными титрами о вырезанных минутах и так далее. Обо всём этом подробно пишу в статье, ссылаясь на Тарантино, Лору Маркс и Жерара Женетта.
Тема только заявлена, буду счастлива, если на неё откликнутся другие исследователи. Полный текст можно прочитать здесь.
🔥29❤20👍5
2 марта еду в Москву читать в Лектории музея Гараж лекцию про Ван Бина!
После долгого перерыва коллеги возобновляют уникальную программу Счастливый час, в рамках которой зрители смотрят ультрадлинные фильмы. Её первый уик-энд будет совершенно эксклюзивным: показывают самую новую работу Ван Бина — трилогию Молодость. За выходные можно посмотреть все три части, а между второй и третьей я расскажу, как фильмы Ван Бина существуют сами по себе и, вместе с тем, резонируют с мировой документалистикой.
Первым делом вспоминают вызывающую продолжительность его неспешных фильмов — они длятся три, шесть, девять, пятнадцать часов. Следом — обсуждают проявившийся в них образ китайского рабочего, все время пребывающего в состоянии транзита: в угасающих и процветающих промышленных районах, в больших городах и слабо урбанизированных провинциях он строит убежища, роет подземные туннели, передвигается обходными путями, рассекает пустыни поперек или движется вперед по размеченным трассам. Ван Бин наблюдает за всеми сразу и по отдельности. Он молчалив, но терпелив и чуток, как видеорегистратор.
И за приглашение, и за программу в целом огромное спасибо замечательной кураторке Алисе Насртдиновой.
Вот здесь можно прочитать подробнее про показы и лекцию, купить билеты, зарегистрироваться.
Приходите! Отличная и редкая возможность увидеться лично)
После долгого перерыва коллеги возобновляют уникальную программу Счастливый час, в рамках которой зрители смотрят ультрадлинные фильмы. Её первый уик-энд будет совершенно эксклюзивным: показывают самую новую работу Ван Бина — трилогию Молодость. За выходные можно посмотреть все три части, а между второй и третьей я расскажу, как фильмы Ван Бина существуют сами по себе и, вместе с тем, резонируют с мировой документалистикой.
Первым делом вспоминают вызывающую продолжительность его неспешных фильмов — они длятся три, шесть, девять, пятнадцать часов. Следом — обсуждают проявившийся в них образ китайского рабочего, все время пребывающего в состоянии транзита: в угасающих и процветающих промышленных районах, в больших городах и слабо урбанизированных провинциях он строит убежища, роет подземные туннели, передвигается обходными путями, рассекает пустыни поперек или движется вперед по размеченным трассам. Ван Бин наблюдает за всеми сразу и по отдельности. Он молчалив, но терпелив и чуток, как видеорегистратор.
И за приглашение, и за программу в целом огромное спасибо замечательной кураторке Алисе Насртдиновой.
Вот здесь можно прочитать подробнее про показы и лекцию, купить билеты, зарегистрироваться.
Приходите! Отличная и редкая возможность увидеться лично)
❤41❤🔥10👍2🤯1
Ровно год назад, 27 февраля, я учредила теплую традицию: публично поздравлять с Днем рождения папу, рассказывая о каком-нибудь жизненном ориентире, который он, желая того или нет, предложил мне в детстве.
Недавно вспомнилось вот такое.
Хотя мы всегда были семьей, где разговоры предпочитают другому досугу, на особенно массовых праздниках, куда съезжалось много родных, рано или поздно наступал час танцев. Сейчас это кажется даже милым, но тогда мне, ребенку-подростку, смотреть на подвыпивших взрослых, внезапно решивших пуститься в малохарактерный для себя пляс, было скорее неловко. Но танцевать шли все — кроме папы. Он невозмутимо оставался за столом, ироничным прищуром отклонял приглашения выйти в круг, так что все обвинения в некомпанейскости проходили сквозь. Я сидела всегда рядом с ним, с самого детства чувствуя, что мы делим друг с другом нечто большее, чем нелюбовь к танцам, — инстинктивное нежелание присоединяться к большинству.
Впрочем, со временем эта максима трансформировалась во что-то чуть более тонкое. Потанцевать бывает приятно, а идти всегда с большинством вразрез не может быть самоцелью. Скорее, суть в том, что если уж случается с ним не сойтись, переживать об этом не стоит: пребывания в меньшинстве, даже в одиночестве не нужно бояться или стыдиться — его надо принимать стойко, спокойно, с достоинством.
И снова:
Ты, пап, из тех счастливых отцов, которых безмерно любят дочери. С Днем рождения 🤍
Недавно вспомнилось вот такое.
Хотя мы всегда были семьей, где разговоры предпочитают другому досугу, на особенно массовых праздниках, куда съезжалось много родных, рано или поздно наступал час танцев. Сейчас это кажется даже милым, но тогда мне, ребенку-подростку, смотреть на подвыпивших взрослых, внезапно решивших пуститься в малохарактерный для себя пляс, было скорее неловко. Но танцевать шли все — кроме папы. Он невозмутимо оставался за столом, ироничным прищуром отклонял приглашения выйти в круг, так что все обвинения в некомпанейскости проходили сквозь. Я сидела всегда рядом с ним, с самого детства чувствуя, что мы делим друг с другом нечто большее, чем нелюбовь к танцам, — инстинктивное нежелание присоединяться к большинству.
Впрочем, со временем эта максима трансформировалась во что-то чуть более тонкое. Потанцевать бывает приятно, а идти всегда с большинством вразрез не может быть самоцелью. Скорее, суть в том, что если уж случается с ним не сойтись, переживать об этом не стоит: пребывания в меньшинстве, даже в одиночестве не нужно бояться или стыдиться — его надо принимать стойко, спокойно, с достоинством.
И снова:
Ты, пап, из тех счастливых отцов, которых безмерно любят дочери. С Днем рождения 🤍
❤103❤🔥25👍9🕊4
Коллекция переизданий теоретических работ о кино продолжает пополняться — недавно издательство Ad Marginem выпустило очередной сборник эссе Ролана Барта. В него вошли и тексты, уже выходившие на русском и выученные исследователями кино и фотографии практически наизусть — Третий смысл, Фотографическое сообщение, Риторика образа, и впервые переведенные эссе о конкретных художниках, живописи, музыке.
Удивительно — ведь Барт считается философом видимого и читаемого — но для меня самым интригующим разделом оказался тот, что посвящен звуку. Я читала и даже цитировала в одном из текстов эссе Зерно голоса, но тут у него появляется удачное соседство, контекст. Оказывается, например. что у Барта была своя классификация типов слушания, несколько отличная от той, которая уже стала считаться очевидной благодаря текстам Мишеля Шиона (эссе Слушание).
И, конечно, каким бы ни был предмет размышления, письмо Барта всегда полно образов и описаний, застревающих в памяти фрагментом, который не нуждается ни в каком контексте:
Сколько видеоэссе о взглядах можно сделать, оттолкнувшись от этого фрагмента.
К слову, как-то особенно приятно советовать книгу, редактором которой выступил Сергей Фокин: даже странно сейчас вспоминать, что у этого замечательного переводчика, исследователя французской культуры и невероятно обаятельного человека мне удалось поучиться, пусть даже в формате одного курса — так давно это, кажется, было.
P/S. Заглянула на сайт и увидела, что недавно переиздали дневники Сонтаг, в том числе их первую часть — Заново рожденная. В свое время не успела купить ее в пару к Сознанию, прикованному к плоти, поэтому поспешила заказать сейчас. Если в вашей библиотеке этих текстов тоже не хватает, не пропустите!
Удивительно — ведь Барт считается философом видимого и читаемого — но для меня самым интригующим разделом оказался тот, что посвящен звуку. Я читала и даже цитировала в одном из текстов эссе Зерно голоса, но тут у него появляется удачное соседство, контекст. Оказывается, например. что у Барта была своя классификация типов слушания, несколько отличная от той, которая уже стала считаться очевидной благодаря текстам Мишеля Шиона (эссе Слушание).
И, конечно, каким бы ни был предмет размышления, письмо Барта всегда полно образов и описаний, застревающих в памяти фрагментом, который не нуждается ни в каком контексте:
...гуляя по марокканскому базару и глядя на продавца кустарных изделий, я прекрасно вижу, что этот продавец прочитывает в моем взгляде лишь взгляд возможного покупателя, ибо, как и клещ, он видит в гуляющих лишь людей одного рода, участников коммерческой сделки. Но если мой взгляд будет настаивать (сколько дополнительных секунд? это интересная семантическая задача), его прочтение сразу же пошатнется: а вдруг я интересуюсь им самим, а не его товаром? Вдруг я вышел из первого кода (коммерческой сделки) и вошел во второй (сообщничества)? Это трение двух кодов я в свою очередь читаю в его взгляде. Всё это создает муаровую переливчатость последовательных смыслов. И для семантика — пусть даже всего лишь гуляющего по базару — нет ничего более возбуждающего, чем видеть в чьем-то взгляде безмолвное распускание смысла.
Сколько видеоэссе о взглядах можно сделать, оттолкнувшись от этого фрагмента.
К слову, как-то особенно приятно советовать книгу, редактором которой выступил Сергей Фокин: даже странно сейчас вспоминать, что у этого замечательного переводчика, исследователя французской культуры и невероятно обаятельного человека мне удалось поучиться, пусть даже в формате одного курса — так давно это, кажется, было.
P/S. Заглянула на сайт и увидела, что недавно переиздали дневники Сонтаг, в том числе их первую часть — Заново рожденная. В свое время не успела купить ее в пару к Сознанию, прикованному к плоти, поэтому поспешила заказать сейчас. Если в вашей библиотеке этих текстов тоже не хватает, не пропустите!
❤29👍11🔥3
В последний месяц 2024 года я прочитала Курорт Антона Секисова — книгу о недолгом опыте эмиграции, которая, в отличие от Фокуса Марии Степановой, завершается попыткой возвращения. Следом познакомилась с его же Богом тревоги и в итоге запуталась, о чем хочу написать: то ли только про Секисова — рассказать, как, кажется, нашла себе любимого российского писателя из числа современных, то ли о том, как Курорт и Фокус отражаются друг в друге.
Наверное, можно начать с простого признания, что мне полюбились все три текста, хотя читать новую работу Степановой в каком-то личном смысле было болезненно, особенно, после Памяти памяти. Последняя — воспринятая мной с чувством глубокой сопричастности, в ощущении, что у нас с создавшей ее писательницей одна история и разделенная боль — слишком контрастирует с Фокусом, рождающим чувство тоски и даже скорби от понимания, что героиня теперь сторонится этой некогда важной общности, борется с ней, как с какой-то болезнью. На самом деле, наши горечи, вполне вероятно, и сейчас вполне смежные, но отчего-то разные способы их проживания (в том числе — дискурсивные) порой затмевают их родственную природу. Как бывает в разговорах с друзьями, живущими теперь где-то в ближнем зарубежье: вроде и говорите об одном, а только неверно подберете слово — и вся беседа начинает горчить.
В этом смысле тексты Секисова оказываются мне позиционно и интонационно ближе растерянного кружения Степановой вокруг собственной личности. Он мыслит свое положение менее островным, демонстрирует довлатовскую насмешливость, и мы удивительно совпадаем в выборе героев, попадающих в орбиту иронии, — будь то сосед по комнате, нелепо принципиальный в бытовых вопросах, эмигрант, узнающий все новости из релокантских чатов и хранящий на прикроватной тумбе книги Энн Эпплбаум, или писатель, жаждущий автограф-сессии в Подписных изданиях. Но за этими карикатурными образами важно расслышать, что в иронии Секисова нет ни жестокости, ни цинизма: во-первых, потому что она, как налогом, облагается самоиронией, во-вторых, потому что на самом деле нужна, чтобы, не ожесточаясь, хоть немного нарастить кожу у человека очень уязвимого, да еще и решившего не бежать, не выкапывать рвы, а иметь дело с реальностью, хоть ее и основательно лихорадит. Странность себя выпячивает и тут же прячется. Открываешь дверь знакомого бара, а оказываешься на сцене фрик шоу; сморгнешь — все нормально, снова родной Бримбориум.
Что-то близкое этим гротескным образам — утопленницы, выгуливающей сиба-ину вдоль моря, детям-двойняшкам, пристающим с расспросами о крещении, — я нахожу в сериалах, американской Атланте и нашем 1703. Там реальность тоже постоянно глитчует, в бытовые ситуации вторгаются элементы гриппозного сна, а житейские истории, вроде маленького урока капризному сыну, оборачиваются коллективным самоубийством. Забавно еще, что концепты названных сериалов выстраиваются вокруг конкретного пространства: не знаю, заменима ли Атланта, но 1703 совершенно точно невозможно помыслить вне Петербурга, именно того, в котором живет герой Секисова из Бога тревоги — города-портала, тесного с виду, но с безграничным скрытым объемом. Полного богемных баров, на удивление модных книжных и современных ЖК с окнами на залив, но все такого же кладбищенского, старорежимно-левого, коммунального, руинированного, балабановского, медновсадниковского.
Парадоксально, что финалы Фокуса и Курорта — на первый взгляд противоположные — в итоге совершенно совпадают в ощущении зыбкости. Героиня Степановой сворачивает в параллельный мир шапито-шоу на одной из европейских границ, пока герой Секисова вязнет в сбитых геолокациях Москвы, пытаясь добраться домой из аэропорта. Получается, в конечном счете неважно, уехал ты, вернулся или оставался дома все время. Истина катаклизматического момента, отпечаток которого в этих текстах особенно ценен, состоит в том, что задвигалось все вокруг и, как писал Александр Гольдштейн, оседлость, подобно невинности, оказалась утраченной.
Наверное, можно начать с простого признания, что мне полюбились все три текста, хотя читать новую работу Степановой в каком-то личном смысле было болезненно, особенно, после Памяти памяти. Последняя — воспринятая мной с чувством глубокой сопричастности, в ощущении, что у нас с создавшей ее писательницей одна история и разделенная боль — слишком контрастирует с Фокусом, рождающим чувство тоски и даже скорби от понимания, что героиня теперь сторонится этой некогда важной общности, борется с ней, как с какой-то болезнью. На самом деле, наши горечи, вполне вероятно, и сейчас вполне смежные, но отчего-то разные способы их проживания (в том числе — дискурсивные) порой затмевают их родственную природу. Как бывает в разговорах с друзьями, живущими теперь где-то в ближнем зарубежье: вроде и говорите об одном, а только неверно подберете слово — и вся беседа начинает горчить.
В этом смысле тексты Секисова оказываются мне позиционно и интонационно ближе растерянного кружения Степановой вокруг собственной личности. Он мыслит свое положение менее островным, демонстрирует довлатовскую насмешливость, и мы удивительно совпадаем в выборе героев, попадающих в орбиту иронии, — будь то сосед по комнате, нелепо принципиальный в бытовых вопросах, эмигрант, узнающий все новости из релокантских чатов и хранящий на прикроватной тумбе книги Энн Эпплбаум, или писатель, жаждущий автограф-сессии в Подписных изданиях. Но за этими карикатурными образами важно расслышать, что в иронии Секисова нет ни жестокости, ни цинизма: во-первых, потому что она, как налогом, облагается самоиронией, во-вторых, потому что на самом деле нужна, чтобы, не ожесточаясь, хоть немного нарастить кожу у человека очень уязвимого, да еще и решившего не бежать, не выкапывать рвы, а иметь дело с реальностью, хоть ее и основательно лихорадит. Странность себя выпячивает и тут же прячется. Открываешь дверь знакомого бара, а оказываешься на сцене фрик шоу; сморгнешь — все нормально, снова родной Бримбориум.
Что-то близкое этим гротескным образам — утопленницы, выгуливающей сиба-ину вдоль моря, детям-двойняшкам, пристающим с расспросами о крещении, — я нахожу в сериалах, американской Атланте и нашем 1703. Там реальность тоже постоянно глитчует, в бытовые ситуации вторгаются элементы гриппозного сна, а житейские истории, вроде маленького урока капризному сыну, оборачиваются коллективным самоубийством. Забавно еще, что концепты названных сериалов выстраиваются вокруг конкретного пространства: не знаю, заменима ли Атланта, но 1703 совершенно точно невозможно помыслить вне Петербурга, именно того, в котором живет герой Секисова из Бога тревоги — города-портала, тесного с виду, но с безграничным скрытым объемом. Полного богемных баров, на удивление модных книжных и современных ЖК с окнами на залив, но все такого же кладбищенского, старорежимно-левого, коммунального, руинированного, балабановского, медновсадниковского.
Парадоксально, что финалы Фокуса и Курорта — на первый взгляд противоположные — в итоге совершенно совпадают в ощущении зыбкости. Героиня Степановой сворачивает в параллельный мир шапито-шоу на одной из европейских границ, пока герой Секисова вязнет в сбитых геолокациях Москвы, пытаясь добраться домой из аэропорта. Получается, в конечном счете неважно, уехал ты, вернулся или оставался дома все время. Истина катаклизматического момента, отпечаток которого в этих текстах особенно ценен, состоит в том, что задвигалось все вокруг и, как писал Александр Гольдштейн, оседлость, подобно невинности, оказалась утраченной.
❤24🔥4👍1🙏1🤡1
Несколько недель назад мои дорогие и любимые друзья — Максим Селезнев и Аня Краснослободцева — анонсировали запуск подкаста Я видел проблески красоты. До сих пор молчала об этом, чтобы разом оповестить и о самом подкасте, и о выходе второго выпуска, в котором приняла личное участие!
Концепция подкаста такая: ребята беседуют с каким-нибудь приглашенным гостем о фильме, который повлиял на него / нее в детстве — интересно, как он смотрелся тогда, как смотрится сейчас, как вообще мы вспоминаем о первых зрительских опытах и какой ревизии можем их подвергнуть спустя много лет?
Я ни минуты не сомневалась в своем выборе, поэтому вот здесь, по ссылке, можно послушать, как мы почти полтора часа обсуждаем Отца невесты (1991) — мой первый фильм в жизни, до сих пор горячо любимый!
Я уже познакомилась с выпуском и поразилась, каким естественным и нежным он получился. За годы дружбы я привыкла слушать ребят в таком свободном режиме, но себе — услышанной со стороны в этой непосредственной беседе — вообще поражаюсь: кажется, что за меня говорит какой-то радостный пес, который просто счастлив быть рядом с любимыми людьми и забывает даже подумать, как звучит со стороны (хотя то, что я дважды повторила оказывать впечатление — это, конечно, не очень).
Мы болтаем, смеемся, говорим про героев фильма немного по-детски, так, будто это наши знакомые: можно ли отменять свадьбу из-за блендера? а рассказывать отцу интимные подробности о первом свидании? почему вместе с фильмом запоминаешь пуговицы на родительской рубашке и предметы интерьера, среди которых впервые его смотрел?
Подкаст можно послушать, например, тут.
Или подписаться на отдельный канал и выбрать ссылку на другую удобную вам платформу.
Концепция подкаста такая: ребята беседуют с каким-нибудь приглашенным гостем о фильме, который повлиял на него / нее в детстве — интересно, как он смотрелся тогда, как смотрится сейчас, как вообще мы вспоминаем о первых зрительских опытах и какой ревизии можем их подвергнуть спустя много лет?
Я ни минуты не сомневалась в своем выборе, поэтому вот здесь, по ссылке, можно послушать, как мы почти полтора часа обсуждаем Отца невесты (1991) — мой первый фильм в жизни, до сих пор горячо любимый!
Я уже познакомилась с выпуском и поразилась, каким естественным и нежным он получился. За годы дружбы я привыкла слушать ребят в таком свободном режиме, но себе — услышанной со стороны в этой непосредственной беседе — вообще поражаюсь: кажется, что за меня говорит какой-то радостный пес, который просто счастлив быть рядом с любимыми людьми и забывает даже подумать, как звучит со стороны (хотя то, что я дважды повторила оказывать впечатление — это, конечно, не очень).
Мы болтаем, смеемся, говорим про героев фильма немного по-детски, так, будто это наши знакомые: можно ли отменять свадьбу из-за блендера? а рассказывать отцу интимные подробности о первом свидании? почему вместе с фильмом запоминаешь пуговицы на родительской рубашке и предметы интерьера, среди которых впервые его смотрел?
Подкаст можно послушать, например, тут.
Или подписаться на отдельный канал и выбрать ссылку на другую удобную вам платформу.
❤54👍10❤🔥4🔥3🕊2
Всего месяц назад делилась ощущениями от книги Шредера — и вот приглашаю вместе ее почитать!
Дом Радио открывает набор в ридинг-группу по книге Пола Шредера «Трансцендентальный стиль в кино».
С 27 марта участники проекта будут встречаться каждый четверг на протяжении месяца и обсуждать идеи Шредера с приглашенными модераторами. Среди них: я (вводные главы), Даша Чернова (глава об Одзу), Никита Лопатин (глава о Брессоне), Мария Грибова (глава о Дрейере).
Сейчас идет сбор заявок — они принимаются до полуночи 21 марта. Заполнить можно вот тут. Участие бесплатное.
Как справедливо предупреждают организаторы:
Ридинг — не лекция, а 100% семинарское занятие, где каждый вкладывается в процесс. Кажется, не участвовала в таком за пределами университета — интересно будет опробовать с вами этот формат)
Дом Радио открывает набор в ридинг-группу по книге Пола Шредера «Трансцендентальный стиль в кино».
С 27 марта участники проекта будут встречаться каждый четверг на протяжении месяца и обсуждать идеи Шредера с приглашенными модераторами. Среди них: я (вводные главы), Даша Чернова (глава об Одзу), Никита Лопатин (глава о Брессоне), Мария Грибова (глава о Дрейере).
Сейчас идет сбор заявок — они принимаются до полуночи 21 марта. Заполнить можно вот тут. Участие бесплатное.
Как справедливо предупреждают организаторы:
Участие в ридинг-группе предполагает предварительную подготовку — чтение главы и просмотр фильмов, — а также вовлеченность в диалог и готовность скрупулезно работать с текстом.
Ридинг — не лекция, а 100% семинарское занятие, где каждый вкладывается в процесс. Кажется, не участвовала в таком за пределами университета — интересно будет опробовать с вами этот формат)
❤37🔥2👏2
Из хорошего просмотренного:
Очень понравился новый фильм Майка Ли Суровая правда, по слухам отвергнутый оскаровскими академиками уже на этапе отбора номинантов, как кино слишком неприятное. Спорить здесь, конечно, не с чем, впрочем, понятно, что не всеми отсутствие дежурного лучика надежды в финале считывается как недостаток (к одному из покалеченных героев он, кстати, проскальзывает).
Марианн Жан-Батист и Дэвид Веббер играют семейную пару, оба участника которой пребывают в глубокой депрессии — и с этого недуга Ли без остатка счищает романтический налет, подчеркивая его разрушительность, даже уродливость. Не знаю, смотрел ли он Астенический синдром, но местами Суровая правда выглядит так, будто героиня первой части фильма Муратовой вышла замуж за персонажа второй — а его болезнь, в свою очередь, спрогрессировала так, что даже в часы бодрствования он фактически утратил желание говорить.
Оттененная его немотой и статичностью Жан-Батист привлекает к себе все внимание. Без видимых причин — они даются намеками, но ни одна не ясна настолько, чтоб послужить объяснением, — она, видимо, уже очень давно живет с параноидальным убеждением, что весь мир существует лишь для того, чтобы ранить ее персонально. Так что есть только два способа как-то в нем выжить: либо изолировать себя поэтапно одеялом, дверью спальни и стенами дома, либо — нападать первой. Думаю, у каждого из нас есть шансы узнать себя в какой-нибудь из сцен фильма (кого хоть раз не захлестывала ненависть к людям за простаиванием в очереди?), и все же узнавание в этом случае нежелательно и протекает болезненно. В Суровой правде показано, что бывает, когда не успеваешь вовремя купировать ощущение, что абсолютно все люди на свете для тебя недостаточно хороши, — постепенно разучиваешься прощать им слабости и просчеты, отказываешься терпеть дискомфорт даже в микроскопических дозах, сокращаешь круг общения до тех пор, пока он не превращается в точку. Даже не люди, а просто мир — живой, меняющийся, не лишенный в связи с этим изъяна — становится невыносимым.
Британское фестивальное кино в первую очередь известно как социальное, уже в нескольких поколениях. В этой рамке — где важно, что у героев с цветом кожи, профессией и размером дома — периодически как будто работал и Ли, но Суровая правда запоминается стерильностью среды, в которой социология уступает место психологии. Люди — не пол, не возраст, не статус — а мембрана, сотрясаемая аффектом. Напрашиваются всякие классические сравнения, с Бергманом, например: он вот тоже снимал фильмы о страсти или стыде. Так и фильм Ли — находит форму для воплощения страха, усталости, мнительности и гнева.
Зацепившись за это сравнение и обсуждая недавно Суровую правду с друзьями, мы пришли к выводу, что такой подход особенно уместно искать в пьесах, которые раскрываются в последующих адаптациях — к любым временам, местам, контекстам. Поэтому так легко будет встретить Пэнси среди жителей своего же дома — с тем же успехом, что и Отелло с Карандышевым.
Очень понравился новый фильм Майка Ли Суровая правда, по слухам отвергнутый оскаровскими академиками уже на этапе отбора номинантов, как кино слишком неприятное. Спорить здесь, конечно, не с чем, впрочем, понятно, что не всеми отсутствие дежурного лучика надежды в финале считывается как недостаток (к одному из покалеченных героев он, кстати, проскальзывает).
Марианн Жан-Батист и Дэвид Веббер играют семейную пару, оба участника которой пребывают в глубокой депрессии — и с этого недуга Ли без остатка счищает романтический налет, подчеркивая его разрушительность, даже уродливость. Не знаю, смотрел ли он Астенический синдром, но местами Суровая правда выглядит так, будто героиня первой части фильма Муратовой вышла замуж за персонажа второй — а его болезнь, в свою очередь, спрогрессировала так, что даже в часы бодрствования он фактически утратил желание говорить.
Оттененная его немотой и статичностью Жан-Батист привлекает к себе все внимание. Без видимых причин — они даются намеками, но ни одна не ясна настолько, чтоб послужить объяснением, — она, видимо, уже очень давно живет с параноидальным убеждением, что весь мир существует лишь для того, чтобы ранить ее персонально. Так что есть только два способа как-то в нем выжить: либо изолировать себя поэтапно одеялом, дверью спальни и стенами дома, либо — нападать первой. Думаю, у каждого из нас есть шансы узнать себя в какой-нибудь из сцен фильма (кого хоть раз не захлестывала ненависть к людям за простаиванием в очереди?), и все же узнавание в этом случае нежелательно и протекает болезненно. В Суровой правде показано, что бывает, когда не успеваешь вовремя купировать ощущение, что абсолютно все люди на свете для тебя недостаточно хороши, — постепенно разучиваешься прощать им слабости и просчеты, отказываешься терпеть дискомфорт даже в микроскопических дозах, сокращаешь круг общения до тех пор, пока он не превращается в точку. Даже не люди, а просто мир — живой, меняющийся, не лишенный в связи с этим изъяна — становится невыносимым.
Британское фестивальное кино в первую очередь известно как социальное, уже в нескольких поколениях. В этой рамке — где важно, что у героев с цветом кожи, профессией и размером дома — периодически как будто работал и Ли, но Суровая правда запоминается стерильностью среды, в которой социология уступает место психологии. Люди — не пол, не возраст, не статус — а мембрана, сотрясаемая аффектом. Напрашиваются всякие классические сравнения, с Бергманом, например: он вот тоже снимал фильмы о страсти или стыде. Так и фильм Ли — находит форму для воплощения страха, усталости, мнительности и гнева.
Зацепившись за это сравнение и обсуждая недавно Суровую правду с друзьями, мы пришли к выводу, что такой подход особенно уместно искать в пьесах, которые раскрываются в последующих адаптациях — к любым временам, местам, контекстам. Поэтому так легко будет встретить Пэнси среди жителей своего же дома — с тем же успехом, что и Отелло с Карандышевым.
❤13🔥13❤🔥4🤔3👍1
Теплейшим опытом университетской работы в этом учебном году было общение с магистрами, которые теперь друг за другом презентуют выпускные проекты.
13 апреля вместе с Дашей Разинкиной приглашаю на выставку созерцательной фотографии in Situ. Она собралась по результатам челленджа: участники каждый день делали по одному снимку с фрагментом своей повседневности. Я тоже в нем поучаствовала — это было импульсивное, не совсем типичное для меня и оттого очень искреннее желание, следование которому в итоге доставило много неожиданной радости.
Фоном в том же выставочном пространстве целый день будут идти лекции о созерцательных практиках в фотографии, кино и дизайне. Я и в этом приму участие — расскажу об эстетике и политике медленного кино.
Встречаемся в любое время с 14 до 22 в чудесной локации Лектория Брусницына — планирую быть там с открытия и до конца последней лекции.
Вход бесплатный, но на лекции и кинопоказ нужно зарегистрироваться. Все подробности о расписании можно почитать здесь.
13 апреля вместе с Дашей Разинкиной приглашаю на выставку созерцательной фотографии in Situ. Она собралась по результатам челленджа: участники каждый день делали по одному снимку с фрагментом своей повседневности. Я тоже в нем поучаствовала — это было импульсивное, не совсем типичное для меня и оттого очень искреннее желание, следование которому в итоге доставило много неожиданной радости.
Фоном в том же выставочном пространстве целый день будут идти лекции о созерцательных практиках в фотографии, кино и дизайне. Я и в этом приму участие — расскажу об эстетике и политике медленного кино.
Встречаемся в любое время с 14 до 22 в чудесной локации Лектория Брусницына — планирую быть там с открытия и до конца последней лекции.
Вход бесплатный, но на лекции и кинопоказ нужно зарегистрироваться. Все подробности о расписании можно почитать здесь.
❤39👍1
Написала новый объемный текст для Кинопоиска -- и, шок, в этот раз он не об одноголосом переводе!
Предлагаю почитать портрет Майка Уайта -- создателя Белого лотоса и ещё десятка отличных фильмов и сериалов.
Сначала думали ограничиться чем-то менее масштабным, вроде разбора третьего сезона, но в ходе погружения открывалось столько всего колоритного, очень характерного и, на мой взгляд, неочевидного о самом Уайте, что в итоге план поменялся, а текст сильно распух. Там есть важные биографические детали, прочерчивание очевидных и неочевидных связей между его проектами, классные цитаты из разных интервью. Последние правда очень важны: Уайт буквально каждого своего героя готов обсуждать в деталях, и его комментарии служат компасом -- например, мой взгляд на некоторые драматургические линии благодаря им сильно скорректировался.
Вообще это оказалось неожиданно важной работой, в том числе, и в личном плане: как будто познакомилась с очень симпатичным человеком, этим знакомством увлеклась и даже как-то после этого изменилась (или хотя бы пообещала себе предпринять такую попытку).
Хотя требовательный редактор Марат Шабаев не разрешил оставить в тексте существительное богатей, спасибо ему огромное за предложение, доверие и терпение 🤍
P.S. здесь должен быть пост о том, как я о-б-о-ж-а-ю Белый лотос и сколько разного о нём подумала, пока пересматривала сейчас все сезоны, но он будет попозже)
Предлагаю почитать портрет Майка Уайта -- создателя Белого лотоса и ещё десятка отличных фильмов и сериалов.
...созданные им герои подчас ведут себя чудовищно, безответственно, но, вопреки их явным провалам, режиссер и сценарист не отказывает им в принятии. Он признает, что без тех, кто ошибается, реальность окажется пресной и скучной: «Каждый заслуживает сочувствия. Все мы не идеальны. Я, например, очень странный. Почти альбинос».
Сначала думали ограничиться чем-то менее масштабным, вроде разбора третьего сезона, но в ходе погружения открывалось столько всего колоритного, очень характерного и, на мой взгляд, неочевидного о самом Уайте, что в итоге план поменялся, а текст сильно распух. Там есть важные биографические детали, прочерчивание очевидных и неочевидных связей между его проектами, классные цитаты из разных интервью. Последние правда очень важны: Уайт буквально каждого своего героя готов обсуждать в деталях, и его комментарии служат компасом -- например, мой взгляд на некоторые драматургические линии благодаря им сильно скорректировался.
Вообще это оказалось неожиданно важной работой, в том числе, и в личном плане: как будто познакомилась с очень симпатичным человеком, этим знакомством увлеклась и даже как-то после этого изменилась (или хотя бы пообещала себе предпринять такую попытку).
Хотя требовательный редактор Марат Шабаев не разрешил оставить в тексте существительное богатей, спасибо ему огромное за предложение, доверие и терпение 🤍
P.S. здесь должен быть пост о том, как я о-б-о-ж-а-ю Белый лотос и сколько разного о нём подумала, пока пересматривала сейчас все сезоны, но он будет попозже)
Кинопоиск
Деньги, секс и (без)духовность: как Майк Уайт воспел чудаков и придумал «Белый лотос» — Статьи на Кинопоиске
История Майка Уайта, создателя «Белого лотоса»
❤🔥48👍8❤6🐳4👀1
нерегулярная рубрика: приятельский дайджест
🌾 У дорогого друга Максима Селезнева наконец-то вышло новое видеоэссе — часовой разбор анимационного мира ШКЯ, который в начале 2010-х годов создала новосибирская художница Ева Морозова. Максим давно горел этой нетривиальной идеей (меня особенно трогает, что они с Евой из одного города) и, судя по отзывам и просмотрам, в итоге получилось что-то гениальное. Сажусь смотреть в ближайшие часы — и вам советую.
💐 Коллега Ольга Давыдова 15 апреля в 19.30 презентует в Порядке слов свою книгу — первую за долгое время полноценную монографию о документальном кино на русском языке. Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы — текст, выросший из блестящего курса, который много лет читался в Смольном и был просто обожаем студентами. Я тоже впервые как-то по-хорошему присмотрелась к документалистике именно благодаря Ольге. Так что призываю поторопиться в книжный!
🌹 Выпускницы все того же Смольного — Юля Мурашова, Полина Каменецкая и Саша Ковальски из Kinemaclub — c 10 по 13 апреля показывают и обсуждают фильмы Аньес Варда на Ленфильме. Можно в три дня посмотреть Пуэнт-Курт, Счастье, Клео от 5 до 7 — и тут же обсудить увиденное в уютной компании. Все подробности и ссылки на билеты вот здесь.
🥀 Замечательная Аня Краснослободцева, о курсах которой я писала уже не раз, почти завершает набор на новый — История экспериментального кино. Все подробности о нем здесь. Курс стартует уже завтра, но пара мест еще есть — можно успеть заскочить в последний вагон, ну или, в крайнем случае, чуть-чуть припоздать. Программа в любом случае очень объемная: 12 недель за, как говорится, сущие копейки.
🌾 У дорогого друга Максима Селезнева наконец-то вышло новое видеоэссе — часовой разбор анимационного мира ШКЯ, который в начале 2010-х годов создала новосибирская художница Ева Морозова. Максим давно горел этой нетривиальной идеей (меня особенно трогает, что они с Евой из одного города) и, судя по отзывам и просмотрам, в итоге получилось что-то гениальное. Сажусь смотреть в ближайшие часы — и вам советую.
💐 Коллега Ольга Давыдова 15 апреля в 19.30 презентует в Порядке слов свою книгу — первую за долгое время полноценную монографию о документальном кино на русском языке. Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы — текст, выросший из блестящего курса, который много лет читался в Смольном и был просто обожаем студентами. Я тоже впервые как-то по-хорошему присмотрелась к документалистике именно благодаря Ольге. Так что призываю поторопиться в книжный!
🌹 Выпускницы все того же Смольного — Юля Мурашова, Полина Каменецкая и Саша Ковальски из Kinemaclub — c 10 по 13 апреля показывают и обсуждают фильмы Аньес Варда на Ленфильме. Можно в три дня посмотреть Пуэнт-Курт, Счастье, Клео от 5 до 7 — и тут же обсудить увиденное в уютной компании. Все подробности и ссылки на билеты вот здесь.
🥀 Замечательная Аня Краснослободцева, о курсах которой я писала уже не раз, почти завершает набор на новый — История экспериментального кино. Все подробности о нем здесь. Курс стартует уже завтра, но пара мест еще есть — можно успеть заскочить в последний вагон, ну или, в крайнем случае, чуть-чуть припоздать. Программа в любом случае очень объемная: 12 недель за, как говорится, сущие копейки.
YouTube
Инструкция к ШКЯ: Гоголь, Чайна Мьевиль, мамблкор
ШКЯ — серия абсурдных комиксов, анимационных роликов и даже целая книга от новосибирской художницы Евы Морозовой. История, которая некогда приобрела популярность благодаря умопомрачительной «Рекламе Скайпа», а за последующие годы лишь приумножила запасы хозяйственно…
❤30🥰9👍2
Сегодня первое, что я прочитала после пробуждения, — пост Никиты по мотивам просмотра нового Гарленда, в котором есть гениальный фрагмент:
Здесь подмечено то, о чем я сама постоянно думаю в последние годы и чему отчасти посвящена моя недавно опубликованная статья о проявлениях экстрафильмического (Никита пишет экстрадиегетического, что, на мой взгляд, не совсем точно, потому что рука цензора может задевать и то, что не относится к диегезису, например, титры — вымарывать из них неугодные имена или добавлять к ним положенные маркировки). Близость прослеживается вплоть до того, что в цитате отмечен именно локальный характер закона, который вынуждает осуществлять вторжение, и мне тоже кажется важным именно местечковый, вернакулярный акцент экстрафильмических элементов и практик.
Единственное, с чем я здесь не согласна, — это немного ернический укол в адрес чуткого российского цензора. Хотя, может, я просто ищу повод выговорить усталость от частых нападок на прокатчиков / редакторов, которые в соответствии с существующими законами вынуждены что-то менять в вверенных им фильмах / текстах. Подчас происходит не слишком корректное объединение двух инстанций: той, что разрабатывает основания для цензуры, и той, что вынужденно осуществляет цензуру фактически. Если с первым все понятно, то второе, на мой взгляд, можно делать, не теряя при этом ни достоинства, ни доверия зрителей / читателей. Кто-то, наверное, скажет: чем соглашаться иметь дело с принуждением, было бы лучше не считаться с рисками или просто отказаться что-либо делать, но этот кто-то обычно говорит / пишет такое издалека — и советы его не слишком уместны.
Парадокс в том, что в нынешних условиях прокатчик / издатель, добавляющий явный, настаивающий на своем присутствии блюр / черные полосы вместо строк / указание о количестве вырезанных минут, и правда, без всякой иронии, поступает довольно чутко, оставляя возможность заметить, что с фильмом / текстом что-то не так. Здесь начинает складываться уважительный диалог с вполне самостоятельным, агентным зрителем, который получает все данные без утаиваний и сам принимает решение, что с ними делать дальше.
Получается оксюморон: цензура становится открытой, даже, я бы сказала, демонстративной. Этот подход только на первый взгляд может показаться раздражающим и неделикатным, но на самом деле как раз он позволяет в предлагаемых обстоятельствах выстраивать с публикой максимально честные отношения. Цензура из фигуры умолчания превращается в нарочитый жест, не дающий забыть: что-то не так, здесь что-то было и кто-то был.
Это тем более важно отметить, что многие сегодня поступают по-другому: сглаживают свои вынужденные вторжения в оригинальные ленты бесшовным монтажом, чтобы, видимо, лишний раз не триггерить зрителя, который хочет за просмотром расслабиться и отключиться от действительности. Такие акты цензуры, на мой взгляд, и правда не многим лучше решений, из-за которых она применяется.
***
От новостей об изъятии книг в Подписных изданиях меня снова подкосило чувство тщеты, которому я за последние годы научилась всегда что-то противопоставлять. Вчера я с ним не справилась, но сегодня подумала, что, может, станет легче, если поступить похожим образом: например, оставить на месте вывезенных книг бреши и ничем их не заполнять.
там под присмотром чуткого российского цензора образ тела размывается, вполне буквально <...> «мужской половой орган» спрятан, укрыт маской блюра. Вторжение цензуры, т.е. (локального) закона в фильм мы привыкли понимать как акт насилия, маркер неверной копии. Как и в случае с телом, целостность фильма нарушается, мы сравниваем его протяженность в минутах, чтобы убедиться в соответствии копий. Однако касание цензуры в случае «Под огнём» — иное, оно само как клеймение кожи, хотя больше даже наслоение поверх. Этот новый слой оказывается экстрадиегетическим, не угрожая сюжетному строю, но до смешного стремится прорваться к самому телу фильма. Мендоса-персонаж смотрит на рану/размытие и восклицает: «Твою мать», будто комментируя сам блюр, эту визуальную аномалию посреди осмотра.
Здесь подмечено то, о чем я сама постоянно думаю в последние годы и чему отчасти посвящена моя недавно опубликованная статья о проявлениях экстрафильмического (Никита пишет экстрадиегетического, что, на мой взгляд, не совсем точно, потому что рука цензора может задевать и то, что не относится к диегезису, например, титры — вымарывать из них неугодные имена или добавлять к ним положенные маркировки). Близость прослеживается вплоть до того, что в цитате отмечен именно локальный характер закона, который вынуждает осуществлять вторжение, и мне тоже кажется важным именно местечковый, вернакулярный акцент экстрафильмических элементов и практик.
Единственное, с чем я здесь не согласна, — это немного ернический укол в адрес чуткого российского цензора. Хотя, может, я просто ищу повод выговорить усталость от частых нападок на прокатчиков / редакторов, которые в соответствии с существующими законами вынуждены что-то менять в вверенных им фильмах / текстах. Подчас происходит не слишком корректное объединение двух инстанций: той, что разрабатывает основания для цензуры, и той, что вынужденно осуществляет цензуру фактически. Если с первым все понятно, то второе, на мой взгляд, можно делать, не теряя при этом ни достоинства, ни доверия зрителей / читателей. Кто-то, наверное, скажет: чем соглашаться иметь дело с принуждением, было бы лучше не считаться с рисками или просто отказаться что-либо делать, но этот кто-то обычно говорит / пишет такое издалека — и советы его не слишком уместны.
Парадокс в том, что в нынешних условиях прокатчик / издатель, добавляющий явный, настаивающий на своем присутствии блюр / черные полосы вместо строк / указание о количестве вырезанных минут, и правда, без всякой иронии, поступает довольно чутко, оставляя возможность заметить, что с фильмом / текстом что-то не так. Здесь начинает складываться уважительный диалог с вполне самостоятельным, агентным зрителем, который получает все данные без утаиваний и сам принимает решение, что с ними делать дальше.
Получается оксюморон: цензура становится открытой, даже, я бы сказала, демонстративной. Этот подход только на первый взгляд может показаться раздражающим и неделикатным, но на самом деле как раз он позволяет в предлагаемых обстоятельствах выстраивать с публикой максимально честные отношения. Цензура из фигуры умолчания превращается в нарочитый жест, не дающий забыть: что-то не так, здесь что-то было и кто-то был.
Это тем более важно отметить, что многие сегодня поступают по-другому: сглаживают свои вынужденные вторжения в оригинальные ленты бесшовным монтажом, чтобы, видимо, лишний раз не триггерить зрителя, который хочет за просмотром расслабиться и отключиться от действительности. Такие акты цензуры, на мой взгляд, и правда не многим лучше решений, из-за которых она применяется.
***
От новостей об изъятии книг в Подписных изданиях меня снова подкосило чувство тщеты, которому я за последние годы научилась всегда что-то противопоставлять. Вчера я с ним не справилась, но сегодня подумала, что, может, станет легче, если поступить похожим образом: например, оставить на месте вывезенных книг бреши и ничем их не заполнять.
🕊49❤27👏5👍2🔥2🤔2🤯1🌚1
Весна принесла много симпатичных сериалов: только закончился любимый Белый лотос, как на его место заступили еженедельные просмотры Киностудии, The Last of us и Репетиции (кстати, предлагаю почитать мой текст о методе Нейтана Филдера, пару лет назад написанный для бумажного номера ИК, кажется, рассуждений о нем на русском языке с тех пор особо не прибавилось). Но мой фаворит сезона — Больница Питт, сериал HBO о работе питтсбургской неотложки.
Это не типичный медицинский процедурал, где у каждой серии отдельный сюжет, и не тот случай горизонтальной драматургии, в котором акцент переносится на вязкие линии личных отношений, из-за чего профессиональная специфика превращается в необязательный антураж. Такое всегда досадно, но в Больнице Питт и сценарий, и разные характеры полутора десятков врачей формируются именно в непрерывном трудовом процессе.
15-часовой сезон — это одна 15-часовая смена. Благодаря такой структурной находке удается и обновлять героев, и не терять связей между эпизодами — они сменяют друг друга движением минутной стрелки: один отбивается титрами и сразу, в том же темпе, продолжается следующим. При этом никто не торопится под формат: если у человека серьезная беда со здоровьем, он останется на несколько серий (умерших и вовсе готовы поминать до конца сезона), если ерундовая — покинет экран через две минуты.
Едва ли у многих получится так сделать, но было бы идеально смотреть Больницу Питт без остановок, как бы радикализируя заложенное формой принуждение. Забавно, что одна их самых невыносимых работ Ван Бина — документалиста, чьи фильмы регистрируют процесс монотонного труда, — тоже идет 15 часов, также следуя хронометражу типичной рабочей смены. Разумеется, у Ван Бина нет и намека на развлекательность, скорее, он формирует зрительский опыт в параллель запечатленному камерой труду — изматывающее к изматывающему. И хотя Больница Питт, как сериал, хотя бы номинально сохраняющий эпизодическую структуру, к зрителю куда бережнее, в нем тоже есть потенциал для просмотра на износ. За ним устаешь; если смотреть подряд, синхронно рабочему процессу, тоже вымотаешься — пусть не от монотонности, а, напротив, из-за избыточной динамики.
Некоторые эпизоды с этой точки зрения вообще превращаются в потемкинскую лестницу — смотрятся как большой аттракцион, шоу-стоппер, верчение медицинского экшна. Карусель бинтов, трубок, надрезов, интубаций — под ритм непрямого массажа сердца. В пиковые моменты больница стирает индивидуальности, превращаясь в ассамбляж людей и машин — такой ее наверняка сняли бы авангардные советские документалисты. Еще так, бывает, описывают современные дегероизирующие военные фильмы, но их пафос Больница Питт интересно переворачивает: вместо беспорядочного уничтожения обезличенных тел, можно наблюдать за столь же неизбирательными и механическими усилиями по их сбереганию. Тем интереснее совпадение в методах демонстрации: и там, и там тело — не человеческий контур, а фрагментированная плоть, манипуляции с которой показаны с безжалостной к зрителю откровенностью.
_________
Еще одна забавная интонационная деталь может кого-то, пожалуй, раздражать: сериал немного дидактичен и как бы исподволь пытается привить аудитории определенные представления о том, как стоит заботиться о своем здоровье. Мой любимый пример — нарочитая демонстрация разницы в масштабе травм при аварии в зависимости от того, ехал ли ты в машине пристегнутым. Такие вставки в Больнице Питт выпирают как баннер с социальной рекламой. Последнюю часто ругают за нарочитость и недостаток коммуникативного изящества (и сериалу из-за таких моментов эти замечания тоже можно адресовать), но содержание ее периодически признаешь уместным. Вот и здесь — в сериале о врачах, часто спасающих людей от последствий их собственной безответственности, — она не кажется такой уж чужеродной.
Это не типичный медицинский процедурал, где у каждой серии отдельный сюжет, и не тот случай горизонтальной драматургии, в котором акцент переносится на вязкие линии личных отношений, из-за чего профессиональная специфика превращается в необязательный антураж. Такое всегда досадно, но в Больнице Питт и сценарий, и разные характеры полутора десятков врачей формируются именно в непрерывном трудовом процессе.
15-часовой сезон — это одна 15-часовая смена. Благодаря такой структурной находке удается и обновлять героев, и не терять связей между эпизодами — они сменяют друг друга движением минутной стрелки: один отбивается титрами и сразу, в том же темпе, продолжается следующим. При этом никто не торопится под формат: если у человека серьезная беда со здоровьем, он останется на несколько серий (умерших и вовсе готовы поминать до конца сезона), если ерундовая — покинет экран через две минуты.
Едва ли у многих получится так сделать, но было бы идеально смотреть Больницу Питт без остановок, как бы радикализируя заложенное формой принуждение. Забавно, что одна их самых невыносимых работ Ван Бина — документалиста, чьи фильмы регистрируют процесс монотонного труда, — тоже идет 15 часов, также следуя хронометражу типичной рабочей смены. Разумеется, у Ван Бина нет и намека на развлекательность, скорее, он формирует зрительский опыт в параллель запечатленному камерой труду — изматывающее к изматывающему. И хотя Больница Питт, как сериал, хотя бы номинально сохраняющий эпизодическую структуру, к зрителю куда бережнее, в нем тоже есть потенциал для просмотра на износ. За ним устаешь; если смотреть подряд, синхронно рабочему процессу, тоже вымотаешься — пусть не от монотонности, а, напротив, из-за избыточной динамики.
Некоторые эпизоды с этой точки зрения вообще превращаются в потемкинскую лестницу — смотрятся как большой аттракцион, шоу-стоппер, верчение медицинского экшна. Карусель бинтов, трубок, надрезов, интубаций — под ритм непрямого массажа сердца. В пиковые моменты больница стирает индивидуальности, превращаясь в ассамбляж людей и машин — такой ее наверняка сняли бы авангардные советские документалисты. Еще так, бывает, описывают современные дегероизирующие военные фильмы, но их пафос Больница Питт интересно переворачивает: вместо беспорядочного уничтожения обезличенных тел, можно наблюдать за столь же неизбирательными и механическими усилиями по их сбереганию. Тем интереснее совпадение в методах демонстрации: и там, и там тело — не человеческий контур, а фрагментированная плоть, манипуляции с которой показаны с безжалостной к зрителю откровенностью.
_________
Еще одна забавная интонационная деталь может кого-то, пожалуй, раздражать: сериал немного дидактичен и как бы исподволь пытается привить аудитории определенные представления о том, как стоит заботиться о своем здоровье. Мой любимый пример — нарочитая демонстрация разницы в масштабе травм при аварии в зависимости от того, ехал ли ты в машине пристегнутым. Такие вставки в Больнице Питт выпирают как баннер с социальной рекламой. Последнюю часто ругают за нарочитость и недостаток коммуникативного изящества (и сериалу из-за таких моментов эти замечания тоже можно адресовать), но содержание ее периодически признаешь уместным. Вот и здесь — в сериале о врачах, часто спасающих людей от последствий их собственной безответственности, — она не кажется такой уж чужеродной.
❤16❤🔥10👍4