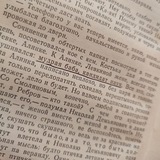Весна принесла много симпатичных сериалов: только закончился любимый Белый лотос, как на его место заступили еженедельные просмотры Киностудии, The Last of us и Репетиции (кстати, предлагаю почитать мой текст о методе Нейтана Филдера, пару лет назад написанный для бумажного номера ИК, кажется, рассуждений о нем на русском языке с тех пор особо не прибавилось). Но мой фаворит сезона — Больница Питт, сериал HBO о работе питтсбургской неотложки.
Это не типичный медицинский процедурал, где у каждой серии отдельный сюжет, и не тот случай горизонтальной драматургии, в котором акцент переносится на вязкие линии личных отношений, из-за чего профессиональная специфика превращается в необязательный антураж. Такое всегда досадно, но в Больнице Питт и сценарий, и разные характеры полутора десятков врачей формируются именно в непрерывном трудовом процессе.
15-часовой сезон — это одна 15-часовая смена. Благодаря такой структурной находке удается и обновлять героев, и не терять связей между эпизодами — они сменяют друг друга движением минутной стрелки: один отбивается титрами и сразу, в том же темпе, продолжается следующим. При этом никто не торопится под формат: если у человека серьезная беда со здоровьем, он останется на несколько серий (умерших и вовсе готовы поминать до конца сезона), если ерундовая — покинет экран через две минуты.
Едва ли у многих получится так сделать, но было бы идеально смотреть Больницу Питт без остановок, как бы радикализируя заложенное формой принуждение. Забавно, что одна их самых невыносимых работ Ван Бина — документалиста, чьи фильмы регистрируют процесс монотонного труда, — тоже идет 15 часов, также следуя хронометражу типичной рабочей смены. Разумеется, у Ван Бина нет и намека на развлекательность, скорее, он формирует зрительский опыт в параллель запечатленному камерой труду — изматывающее к изматывающему. И хотя Больница Питт, как сериал, хотя бы номинально сохраняющий эпизодическую структуру, к зрителю куда бережнее, в нем тоже есть потенциал для просмотра на износ. За ним устаешь; если смотреть подряд, синхронно рабочему процессу, тоже вымотаешься — пусть не от монотонности, а, напротив, из-за избыточной динамики.
Некоторые эпизоды с этой точки зрения вообще превращаются в потемкинскую лестницу — смотрятся как большой аттракцион, шоу-стоппер, верчение медицинского экшна. Карусель бинтов, трубок, надрезов, интубаций — под ритм непрямого массажа сердца. В пиковые моменты больница стирает индивидуальности, превращаясь в ассамбляж людей и машин — такой ее наверняка сняли бы авангардные советские документалисты. Еще так, бывает, описывают современные дегероизирующие военные фильмы, но их пафос Больница Питт интересно переворачивает: вместо беспорядочного уничтожения обезличенных тел, можно наблюдать за столь же неизбирательными и механическими усилиями по их сбереганию. Тем интереснее совпадение в методах демонстрации: и там, и там тело — не человеческий контур, а фрагментированная плоть, манипуляции с которой показаны с безжалостной к зрителю откровенностью.
_________
Еще одна забавная интонационная деталь может кого-то, пожалуй, раздражать: сериал немного дидактичен и как бы исподволь пытается привить аудитории определенные представления о том, как стоит заботиться о своем здоровье. Мой любимый пример — нарочитая демонстрация разницы в масштабе травм при аварии в зависимости от того, ехал ли ты в машине пристегнутым. Такие вставки в Больнице Питт выпирают как баннер с социальной рекламой. Последнюю часто ругают за нарочитость и недостаток коммуникативного изящества (и сериалу из-за таких моментов эти замечания тоже можно адресовать), но содержание ее периодически признаешь уместным. Вот и здесь — в сериале о врачах, часто спасающих людей от последствий их собственной безответственности, — она не кажется такой уж чужеродной.
Это не типичный медицинский процедурал, где у каждой серии отдельный сюжет, и не тот случай горизонтальной драматургии, в котором акцент переносится на вязкие линии личных отношений, из-за чего профессиональная специфика превращается в необязательный антураж. Такое всегда досадно, но в Больнице Питт и сценарий, и разные характеры полутора десятков врачей формируются именно в непрерывном трудовом процессе.
15-часовой сезон — это одна 15-часовая смена. Благодаря такой структурной находке удается и обновлять героев, и не терять связей между эпизодами — они сменяют друг друга движением минутной стрелки: один отбивается титрами и сразу, в том же темпе, продолжается следующим. При этом никто не торопится под формат: если у человека серьезная беда со здоровьем, он останется на несколько серий (умерших и вовсе готовы поминать до конца сезона), если ерундовая — покинет экран через две минуты.
Едва ли у многих получится так сделать, но было бы идеально смотреть Больницу Питт без остановок, как бы радикализируя заложенное формой принуждение. Забавно, что одна их самых невыносимых работ Ван Бина — документалиста, чьи фильмы регистрируют процесс монотонного труда, — тоже идет 15 часов, также следуя хронометражу типичной рабочей смены. Разумеется, у Ван Бина нет и намека на развлекательность, скорее, он формирует зрительский опыт в параллель запечатленному камерой труду — изматывающее к изматывающему. И хотя Больница Питт, как сериал, хотя бы номинально сохраняющий эпизодическую структуру, к зрителю куда бережнее, в нем тоже есть потенциал для просмотра на износ. За ним устаешь; если смотреть подряд, синхронно рабочему процессу, тоже вымотаешься — пусть не от монотонности, а, напротив, из-за избыточной динамики.
Некоторые эпизоды с этой точки зрения вообще превращаются в потемкинскую лестницу — смотрятся как большой аттракцион, шоу-стоппер, верчение медицинского экшна. Карусель бинтов, трубок, надрезов, интубаций — под ритм непрямого массажа сердца. В пиковые моменты больница стирает индивидуальности, превращаясь в ассамбляж людей и машин — такой ее наверняка сняли бы авангардные советские документалисты. Еще так, бывает, описывают современные дегероизирующие военные фильмы, но их пафос Больница Питт интересно переворачивает: вместо беспорядочного уничтожения обезличенных тел, можно наблюдать за столь же неизбирательными и механическими усилиями по их сбереганию. Тем интереснее совпадение в методах демонстрации: и там, и там тело — не человеческий контур, а фрагментированная плоть, манипуляции с которой показаны с безжалостной к зрителю откровенностью.
_________
Еще одна забавная интонационная деталь может кого-то, пожалуй, раздражать: сериал немного дидактичен и как бы исподволь пытается привить аудитории определенные представления о том, как стоит заботиться о своем здоровье. Мой любимый пример — нарочитая демонстрация разницы в масштабе травм при аварии в зависимости от того, ехал ли ты в машине пристегнутым. Такие вставки в Больнице Питт выпирают как баннер с социальной рекламой. Последнюю часто ругают за нарочитость и недостаток коммуникативного изящества (и сериалу из-за таких моментов эти замечания тоже можно адресовать), но содержание ее периодически признаешь уместным. Вот и здесь — в сериале о врачах, часто спасающих людей от последствий их собственной безответственности, — она не кажется такой уж чужеродной.
❤16❤🔥10👍4
В 2022-м я покидала Россию совсем ненадолго: под самый финал отправилась на несколько недель в Армению, чтобы встретить тот незабываемо странный Новый год в кругу близких людей, оказавшихся за границей с разными планами и на разный срок. По соседству от нас, кварталах, наверное, в трех-четырех, тот же ритуал проводила другая компания переехавших в Ереван россиян. В тот вечер к ним на застолье заглянул Василий Сонькин — москвич, киновед, временно растерянный релокант, решивший устроить небольшое турне в образе Деда Мороза и поддержать других разбросанных по разным странам друзей-знакомых. Из этой истории получился документальный фильм Сергея Карпова с очень нежным, абсолютно сандэнсовским названием Мы тебя везде ищем (вошел в онлайн-программу Артдокфеста).
2022 год из нынешнего кажется ушедшей натурой, временем, у которого был очень конкретный характер. Иногда, как присказку, проговариваешь так он все и идет, тот год, а потом видишь его в фильме и узнаешь безошибочно, как то, что явно не есть, а было. Тогда — выбитая из-под ног почва, перманентная встревоженность, компульсивность действий, импульсивность решений, стремление зависнуть хотя бы в транзите, лечь на сохранение и посмотреть, что будет. Сейчас уже не так, все больше про себя поняли, хотя бы в пространственном смысле: кто-то, как герой фильма, вернулся, кто-то твердо решил, что возвращаться не будет, — распаковал чемоданы, на все документы проставил апостиль и осел в новом месте.
Если выхватить из Мы тебя везде ищем отдельные кадры, можно и правда подумать, что это игровой фильм с Сандэнса: грустный мужчина с пергидрольными волосами и в костюме Деда Мороза сидит посреди обычного двора; он же — утром, на тесной кухне съемной квартиры, в домашней футболке и с чашкой горячего чая в руках щурится на солнечные лучи. Получается что-то о невеселых праздниках, кино, смешавшее карнавальный новогодний колорит с хмурой рутиной — вроде Петровых в гриппе или Рождество, опять, переделанного на постсоветский манер. Разглядываешь эти кадры, и не верится, что их можно случайно выхватить из потока эмигрантской повседневности. Да так, вероятно, и не было: хоть герой в течение фильма почти не смотрит в объектив, очевидно, что он имеет в виду присутствие камеры — и немного ей подыгрывает, слегка позирует, будто помогает режиссеру подобрать говорящие образы для трансляции настроения, которое на тот момент ещё только обретало язык.
Когда я проживаю что-то, с чем тяжело справляться, в качестве терапевтической практики часто представляю, что за мной в этом процессе кто-нибудь наблюдает. Будто какой-то неназванный и бессловесный свидетель регистрирует, как я переживаю выпавшие мне испытания, и обещает, что обязательно сохранит этот опыт, превратит его потом в какой-нибудь нарратив. Этот воображаемый взгляд помогает отчуждать слегка боль и горечь — как будто я сама для себя становлюсь персонажем, на которого можно смотреть со стороны и, например, отметить абсурдность приключившегося со мной положения, которое изнутри кажется совсем не смешным.
Вот и Мы тебя везде ищем превосходно воплощает такой многослойный диалог с самим собой, где Карпов изловчился снять сразу всех. И уязвимого, хрупкого Сонькина, разглядывающего жену и детей в маленьком окошке зума, и Сонькина-персонажа — Деда Мороза, скитающегося по странам, куда уехало больше всего его друзей-москвичей, и Сонькина-за-собой-наблюдающего — отмечающего, как нелепо ехать в светомузыкальном тбилисском такси под русский шансон, когда ты в таком раздрае, что жить не хочется.
Удваивая придуманный Сонькиным дружеский новогодний перформанс, работа Карпова тоже видится жестом поддержки и ободрения. Режиссер не хочет снимать героя украдкой, не силится поймать его на противоречии между сущностным и демонстративным. Тем поразительней, что фильм, не стремящийся быть ни антропологическим исследованием, ни политическим высказыванием, оказывается столь чутким в фиксации своего быстро ускользнувшего времени. Ведь вопреки всем ужасам 2022 года, именно тогда встретить простой жест поддержки было как-то особенно легко и естественно.
2022 год из нынешнего кажется ушедшей натурой, временем, у которого был очень конкретный характер. Иногда, как присказку, проговариваешь так он все и идет, тот год, а потом видишь его в фильме и узнаешь безошибочно, как то, что явно не есть, а было. Тогда — выбитая из-под ног почва, перманентная встревоженность, компульсивность действий, импульсивность решений, стремление зависнуть хотя бы в транзите, лечь на сохранение и посмотреть, что будет. Сейчас уже не так, все больше про себя поняли, хотя бы в пространственном смысле: кто-то, как герой фильма, вернулся, кто-то твердо решил, что возвращаться не будет, — распаковал чемоданы, на все документы проставил апостиль и осел в новом месте.
Если выхватить из Мы тебя везде ищем отдельные кадры, можно и правда подумать, что это игровой фильм с Сандэнса: грустный мужчина с пергидрольными волосами и в костюме Деда Мороза сидит посреди обычного двора; он же — утром, на тесной кухне съемной квартиры, в домашней футболке и с чашкой горячего чая в руках щурится на солнечные лучи. Получается что-то о невеселых праздниках, кино, смешавшее карнавальный новогодний колорит с хмурой рутиной — вроде Петровых в гриппе или Рождество, опять, переделанного на постсоветский манер. Разглядываешь эти кадры, и не верится, что их можно случайно выхватить из потока эмигрантской повседневности. Да так, вероятно, и не было: хоть герой в течение фильма почти не смотрит в объектив, очевидно, что он имеет в виду присутствие камеры — и немного ей подыгрывает, слегка позирует, будто помогает режиссеру подобрать говорящие образы для трансляции настроения, которое на тот момент ещё только обретало язык.
Когда я проживаю что-то, с чем тяжело справляться, в качестве терапевтической практики часто представляю, что за мной в этом процессе кто-нибудь наблюдает. Будто какой-то неназванный и бессловесный свидетель регистрирует, как я переживаю выпавшие мне испытания, и обещает, что обязательно сохранит этот опыт, превратит его потом в какой-нибудь нарратив. Этот воображаемый взгляд помогает отчуждать слегка боль и горечь — как будто я сама для себя становлюсь персонажем, на которого можно смотреть со стороны и, например, отметить абсурдность приключившегося со мной положения, которое изнутри кажется совсем не смешным.
Вот и Мы тебя везде ищем превосходно воплощает такой многослойный диалог с самим собой, где Карпов изловчился снять сразу всех. И уязвимого, хрупкого Сонькина, разглядывающего жену и детей в маленьком окошке зума, и Сонькина-персонажа — Деда Мороза, скитающегося по странам, куда уехало больше всего его друзей-москвичей, и Сонькина-за-собой-наблюдающего — отмечающего, как нелепо ехать в светомузыкальном тбилисском такси под русский шансон, когда ты в таком раздрае, что жить не хочется.
Удваивая придуманный Сонькиным дружеский новогодний перформанс, работа Карпова тоже видится жестом поддержки и ободрения. Режиссер не хочет снимать героя украдкой, не силится поймать его на противоречии между сущностным и демонстративным. Тем поразительней, что фильм, не стремящийся быть ни антропологическим исследованием, ни политическим высказыванием, оказывается столь чутким в фиксации своего быстро ускользнувшего времени. Ведь вопреки всем ужасам 2022 года, именно тогда встретить простой жест поддержки было как-то особенно легко и естественно.
🕊27❤23
Давненько не наблюдала, чтобы все сообщество исследователей кино так дружно читало и обсуждало одну и ту же книгу — речь, конечно, о Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века, сборнике, составленном из заметок-постов куратора Австрийского музея кино Юрия Медена. Текст издал и виртуозно проиллюстрировал музей Garage, а перевела его прекрасная Ирина Марголина, сама — исследовательница кино и, в частности, его пленочной материальности (кстати, личными мыслями о получившемся издании Ира делится здесь).
Меден сразу оговаривается, что ставит перед собой не исследовательские, а, скорее, провокаторские задачи — так что текст его состоит из коротеньких анекдотов (слово его), поучительных случаев из собственной кураторской практики. Поскольку он явно пестует форму фрагмента, свои заметки о прочитанном оставлю в том же формате.
1/ Сфера интересов Медена частично пересекается с текстами Хито Штейрль — в частности, их обоих волнует изменчивость фильма, поток пленочных и цифровых копий, множащий неконтролируемые искажения. Даже примеры их схожи — у обоих есть сюжеты про скитания югославского кино, что, наверное, получилось случайно, но концептуально читается очень изящно, учитывая эфемерность этой страны, исчезнувшей, но до сих пор остающейся неустранимым горизонтом в бесконечной пересборке ее лоскутной территории.
Вот еще — красивая цитата, которую я гарантированно использую в одной из следующих статей или лекций о фильме как не-целостном объекте:
2/ Интересным лейтмотивом текста мне показалась пунктирная дискуссия Медена-идеалиста с Меденом-реалистом. Первому, например, может и хотелось бы верить в существование эталонной копии фильма, но второй вынужден признать, что саморазрушение вписано в саму онтологию кино (в духе, кстати, другого архивиста-теоретика Паоло Черчи Усая, написавшего небольшую книгу на схожую тему). Точно так же первый ищет аргументы в пользу сохранения традиционных практик просмотра и символического капитала лицензированных синематек, а второй рассказывает, как karagarga и другие торрент-трекеры (все это он афористично называет небесной синематекой) анархично воспитали несколько поколений киноманов по всему миру. В Косово и Тегеране в ответ на вопрос о происхождении демонстрируемых на какой-нибудь ретроспективе копий ему снисходительно улыбаются — как существу наивному, не только слегка избалованному привилегиями обеспеченных институций, но и серьезно ограничивающему верностью легальным просмотрам свои возможности в знакомстве с кино.
Да, есть такой парадокс: исследователи из стран (или городов), где не очень развиты киноинституции и пиратство не табуировано, порой выигрывают в насмотренности у респектабельных синефилов, привыкших зависеть от репертуара легальных стримингов и синематек. Признавать поражение Меден, конечно, не собирается, размышляя о том, что можно противопоставить домашним просмотрам, но и не делает пиратство фигурой умолчания, как это принято у некоторых ученых и преподавателей престижных университетов, для которых история кино ограничивается коллекцией лицензионных blu-ray — и чем богаче эта коллекция, тем сильней их ожесточение к пиратству, чтобы привилегия ни в коем случае не ставилась под сомнение.
3/ А что, собственно, противопоставить? У Медена есть идея, не им придуманная, но все еще недостаточно обиходная, чтоб вовсе о ней не упоминать. Это перформативность показа, к которой стоило бы двигаться арт-кинотеатрам и музеям кино. Он говорит в таком ключе и о сеансах пленочного кино:
Показалась симпатичной идея употреблять в отношении пленки слово перформанс — если мы принимаем во внимание, что пленка для кино является телом...
Меден сразу оговаривается, что ставит перед собой не исследовательские, а, скорее, провокаторские задачи — так что текст его состоит из коротеньких анекдотов (слово его), поучительных случаев из собственной кураторской практики. Поскольку он явно пестует форму фрагмента, свои заметки о прочитанном оставлю в том же формате.
1/ Сфера интересов Медена частично пересекается с текстами Хито Штейрль — в частности, их обоих волнует изменчивость фильма, поток пленочных и цифровых копий, множащий неконтролируемые искажения. Даже примеры их схожи — у обоих есть сюжеты про скитания югославского кино, что, наверное, получилось случайно, но концептуально читается очень изящно, учитывая эфемерность этой страны, исчезнувшей, но до сих пор остающейся неустранимым горизонтом в бесконечной пересборке ее лоскутной территории.
Вот еще — красивая цитата, которую я гарантированно использую в одной из следующих статей или лекций о фильме как не-целостном объекте:
В конце концов, история кино ... — это история царапин, разрывов, ожогов, нечетких изображений, задержек при смене бобин, пропущенных кадров, несовершенных кадров, абы каких скоростей проекции, не говоря уже о суматохе перед экраном.
2/ Интересным лейтмотивом текста мне показалась пунктирная дискуссия Медена-идеалиста с Меденом-реалистом. Первому, например, может и хотелось бы верить в существование эталонной копии фильма, но второй вынужден признать, что саморазрушение вписано в саму онтологию кино (в духе, кстати, другого архивиста-теоретика Паоло Черчи Усая, написавшего небольшую книгу на схожую тему). Точно так же первый ищет аргументы в пользу сохранения традиционных практик просмотра и символического капитала лицензированных синематек, а второй рассказывает, как karagarga и другие торрент-трекеры (все это он афористично называет небесной синематекой) анархично воспитали несколько поколений киноманов по всему миру. В Косово и Тегеране в ответ на вопрос о происхождении демонстрируемых на какой-нибудь ретроспективе копий ему снисходительно улыбаются — как существу наивному, не только слегка избалованному привилегиями обеспеченных институций, но и серьезно ограничивающему верностью легальным просмотрам свои возможности в знакомстве с кино.
Да, есть такой парадокс: исследователи из стран (или городов), где не очень развиты киноинституции и пиратство не табуировано, порой выигрывают в насмотренности у респектабельных синефилов, привыкших зависеть от репертуара легальных стримингов и синематек. Признавать поражение Меден, конечно, не собирается, размышляя о том, что можно противопоставить домашним просмотрам, но и не делает пиратство фигурой умолчания, как это принято у некоторых ученых и преподавателей престижных университетов, для которых история кино ограничивается коллекцией лицензионных blu-ray — и чем богаче эта коллекция, тем сильней их ожесточение к пиратству, чтобы привилегия ни в коем случае не ставилась под сомнение.
3/ А что, собственно, противопоставить? У Медена есть идея, не им придуманная, но все еще недостаточно обиходная, чтоб вовсе о ней не упоминать. Это перформативность показа, к которой стоило бы двигаться арт-кинотеатрам и музеям кино. Он говорит в таком ключе и о сеансах пленочного кино:
Такой перформанс должен быть сохранен и осмыслен на собственных условиях, отдельно от цифрового показа цифровых копий / сканов того же аналогового фильма.
Показалась симпатичной идея употреблять в отношении пленки слово перформанс — если мы принимаем во внимание, что пленка для кино является телом...
❤21❤🔥2👍2