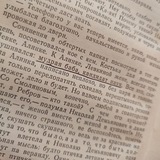Луис Бунюэль, на какое-то время переехавший в Мексику после утверждения франкистской диктатуры, именно там снял фильм Ангел-истребитель. Я внезапно вспомнила о его мексиканском происхождении под самый конец поездки — в ее дополнительный день, который был выдан нам в утешение, как гостинец, уже на пороге спешно сунутый в карман уходящему визитеру. Из-за абсурдности главного концепта Ангел-истребитель часто называют комедией: там люди без всякой ясной причины не могут покинуть комнату, упираясь в невидимую стену и подбирая своим неловким потугам оправдания одно нелепей другого. Но это, друзья, не смешно.
Я воспринимала фильм так, как принято, — через рамку сюрреализма — пока при попытке покинуть Мексику с нами не начали происходить по-настоящему странные вещи.
На автобусной станции в Пуэбле мы впервые столкнулись с мексиканской полицией: нас чуть не арестовали из-за пса, подозрительно принюхавшегося к одному из чемоданов. Бессмысленное перетряхивание наших вещей и переговоры на испанском с чудом ответившей на звонок представительницей университета заняли ровно столько, чтоб мы успели все-таки заскочить в отъезжающий автобус. Но затем, уже в аэропорте, нам выдали неправильные билеты: не с тем временем, не с тем выходом. Так что шестичасовое ожидание рейса превратилось в блуждание, полное иррациональных сомнений: может быть, вопреки здравому смыслу, наш самолет так и не подадут на посадку, и мы все-таки никуда сейчас не полетим?
Мой коллега Омар любит рассказывать о слове ahorita, которое у них понимают не так, как везде. Обычно его говорят, если планируют справиться с чем-то в ближайшие сроки, но в Мексике ahorita — это нечто неопределенное, маркирующее одновременно и наличие, и откладывание намерения, так что два часа легко превращаются в пару десятилетий. Не в курсе, знал ли об этом феномене Бунюэль, именно там придумавший Ангела-истребителя, но это слово, как я теперь понимаю, определяет характер Мексики — выходит, вплоть до работы аэропорта — куда лучше аморфного в своей интернациональности сюрреализма.
Мы все-таки вылетели в Стамбул, последний раз полюбовавшись на одинокую пальму на горизонте, успев вдохнуть липкий, потный воздух Канкуна. Но Кетцалькоатль, под конец решивший противоречить себе и отправлять теперь совершенно другие сигналы, добрался до нас и там — развернул самолет, уже почти подлетевший к России, и вместо Петербурга на еще одну ночь отправил нас в Hampton by Hilton. В номера, где можно курить и снова, как будто успешней первого раза, пытаться свыкнуться с возвращением — чтобы потом пойти на прогулку и встретить стамбульский рассвет бок о бок с еще одним, теперь уже добрым спутником-псом.
Я уже в Петербурге, но меня не оставляет еще одна мысль: как-то так получилось, что в аэропорте Мехико мы так и не прошли пограничный контроль. Так что, если верить моему паспорту, теперь навсегда лишенному финального штампа, я как въехала в Мексику в начале июня, так и осталась там.
Я воспринимала фильм так, как принято, — через рамку сюрреализма — пока при попытке покинуть Мексику с нами не начали происходить по-настоящему странные вещи.
На автобусной станции в Пуэбле мы впервые столкнулись с мексиканской полицией: нас чуть не арестовали из-за пса, подозрительно принюхавшегося к одному из чемоданов. Бессмысленное перетряхивание наших вещей и переговоры на испанском с чудом ответившей на звонок представительницей университета заняли ровно столько, чтоб мы успели все-таки заскочить в отъезжающий автобус. Но затем, уже в аэропорте, нам выдали неправильные билеты: не с тем временем, не с тем выходом. Так что шестичасовое ожидание рейса превратилось в блуждание, полное иррациональных сомнений: может быть, вопреки здравому смыслу, наш самолет так и не подадут на посадку, и мы все-таки никуда сейчас не полетим?
Мой коллега Омар любит рассказывать о слове ahorita, которое у них понимают не так, как везде. Обычно его говорят, если планируют справиться с чем-то в ближайшие сроки, но в Мексике ahorita — это нечто неопределенное, маркирующее одновременно и наличие, и откладывание намерения, так что два часа легко превращаются в пару десятилетий. Не в курсе, знал ли об этом феномене Бунюэль, именно там придумавший Ангела-истребителя, но это слово, как я теперь понимаю, определяет характер Мексики — выходит, вплоть до работы аэропорта — куда лучше аморфного в своей интернациональности сюрреализма.
Мы все-таки вылетели в Стамбул, последний раз полюбовавшись на одинокую пальму на горизонте, успев вдохнуть липкий, потный воздух Канкуна. Но Кетцалькоатль, под конец решивший противоречить себе и отправлять теперь совершенно другие сигналы, добрался до нас и там — развернул самолет, уже почти подлетевший к России, и вместо Петербурга на еще одну ночь отправил нас в Hampton by Hilton. В номера, где можно курить и снова, как будто успешней первого раза, пытаться свыкнуться с возвращением — чтобы потом пойти на прогулку и встретить стамбульский рассвет бок о бок с еще одним, теперь уже добрым спутником-псом.
Я уже в Петербурге, но меня не оставляет еще одна мысль: как-то так получилось, что в аэропорте Мехико мы так и не прошли пограничный контроль. Так что, если верить моему паспорту, теперь навсегда лишенному финального штампа, я как въехала в Мексику в начале июня, так и осталась там.
❤52❤🔥10🕊5😁3👀2
Когда-нибудь этот канал снова будет посвящен фильмам и книгам, но время еще не пришло.
Один из коллег, теперь ставший другом по переписке, чутко заметил, что, быть может, причина, по которой возвращение дается так тяжело, связана с тем, что we probably liked the Mexican versions of ourselves very much.
Бродя по Петербургу в коматозном состоянии и не зная, куда деть себя теперь от тоски, я зацепилась за эту мысль как спасительную: что если дело не только в конкретном месте и в конкретных людях, от утраты которых меня шатает, а во мне самой? Может быть, больше всего мне не хватает себя — той, которой, как оказалось в Мексике, я могу быть? Это соображение, затрагивающее самый фундамент жизни, вопреки его пугающей масштабности, все-таки кажется обнадеживающим — ведь на то, кем быть, в отличие от многого другого, я могу повлиять, если достанет сил остаться с собой решительной и честной.
Прежде всего, оглядываясь сейчас на себя в предшествующие этой поездке годы, я замечаю, как мало, в самом деле, все это время думала о себе. Мою личную жизнь, как и жизни многих, как бы смыло в этот затянувшийся период волной большой трагедии, почти не оставляющей пространства для трагедий личных, превращающей приватное в нечто беспроблемное и очень понятное — в спасительный ресурс поддержки, уютный и надежный карман, в который прячешься от бури, с которой не по силам совладать. Но я очень люблю сюжет с трансформацией советской культуры и кино в частности: как после революции, Гражданской войны, коллективизации и индустриализации, репрессий, Второй мировой, покорения космоса — общество объединилось в последнем коллективном выдохе и тотчас распалось на единицы. Вызов, кризис, катаклизм сразу переместились извне вовнутрь — и мои любимые фильмы (Июльский дождь самый-самый) и тексты второй половины 1960-х и 1970-х показывают, как в каждом из героев, наконец получивших достаточно пространства и времени для разговора с самим собой, тотчас разверзлась внутренняя пропасть. Так, распивая одним поздним мексиканским вечером Modelo Negro в сквере на задворках католического храма, я решилась произнести вещи, о которых смущалась до того поговорить даже с собой: что разметка, навязанная моей жизни бессубъектным внешним императивом, в пору мне не во всем.
В Мексике я целый месяц не читала новостей — и, сознавая беспечность, совершенно не стыжусь в этом признаться. Я была так поглощена, так захвачена собственной жизнью, что, как потом оказалось, не заметила даже, что в мире за это время началась и закончилась очередная война. Вернувшись, я постепенно достаю привычные каналы из архива, с опаской, на очень осторожной дистанции принимаюсь снова смотреть кино, но как будто ревную себя к экрану: не хочу больше отчуждать собственные чувства в пользу несуществующих миров.
Теперь я испытываю не свойственное себе отторжение к построению планов. Думаю, что во многом причина столь интенсивного переживания времени в Мексике заключалась в том, что за целый месяц там я ни разу не ждала ни одного дня наперед (ну, разве что, думала периодически о том, что когда-нибудь настанет последний). Такое ожидание — когда, например, в начале декабря уже думаешь о встрече Нового года — обыкновенно скукоживает все предшествующие события, превращает их в незначительный придаток к чему-то самому главному. Но там мы, как будто не прикладывая специальных усилий, умели добывать чудеса из пустяков. Их источником могла стать поездка на Uber, распитие кортадо на порожке кофейни, заботливо добытая к завтраку булочка, приветственное слово, просто так выученное студентом на русском, бесстрашная дорога домой через пропахший травой Paseo Bravo.
Во время одной из последних барных встреч нам снова предложили попросить о чем-нибудь одного из мексиканских святых. Я все думаю о том, что тогда написала на ленте: в чем там можно рассчитывать на богов, которые и без того явно были на моей стороне, а в чем — на себя. И справлюсь ли я с этим в принципе, ведь мой товарищ по переписке мудро добавил: I keep telling myself to be more Mexican, but it is hard without those people around you.
Один из коллег, теперь ставший другом по переписке, чутко заметил, что, быть может, причина, по которой возвращение дается так тяжело, связана с тем, что we probably liked the Mexican versions of ourselves very much.
Бродя по Петербургу в коматозном состоянии и не зная, куда деть себя теперь от тоски, я зацепилась за эту мысль как спасительную: что если дело не только в конкретном месте и в конкретных людях, от утраты которых меня шатает, а во мне самой? Может быть, больше всего мне не хватает себя — той, которой, как оказалось в Мексике, я могу быть? Это соображение, затрагивающее самый фундамент жизни, вопреки его пугающей масштабности, все-таки кажется обнадеживающим — ведь на то, кем быть, в отличие от многого другого, я могу повлиять, если достанет сил остаться с собой решительной и честной.
Прежде всего, оглядываясь сейчас на себя в предшествующие этой поездке годы, я замечаю, как мало, в самом деле, все это время думала о себе. Мою личную жизнь, как и жизни многих, как бы смыло в этот затянувшийся период волной большой трагедии, почти не оставляющей пространства для трагедий личных, превращающей приватное в нечто беспроблемное и очень понятное — в спасительный ресурс поддержки, уютный и надежный карман, в который прячешься от бури, с которой не по силам совладать. Но я очень люблю сюжет с трансформацией советской культуры и кино в частности: как после революции, Гражданской войны, коллективизации и индустриализации, репрессий, Второй мировой, покорения космоса — общество объединилось в последнем коллективном выдохе и тотчас распалось на единицы. Вызов, кризис, катаклизм сразу переместились извне вовнутрь — и мои любимые фильмы (Июльский дождь самый-самый) и тексты второй половины 1960-х и 1970-х показывают, как в каждом из героев, наконец получивших достаточно пространства и времени для разговора с самим собой, тотчас разверзлась внутренняя пропасть. Так, распивая одним поздним мексиканским вечером Modelo Negro в сквере на задворках католического храма, я решилась произнести вещи, о которых смущалась до того поговорить даже с собой: что разметка, навязанная моей жизни бессубъектным внешним императивом, в пору мне не во всем.
В Мексике я целый месяц не читала новостей — и, сознавая беспечность, совершенно не стыжусь в этом признаться. Я была так поглощена, так захвачена собственной жизнью, что, как потом оказалось, не заметила даже, что в мире за это время началась и закончилась очередная война. Вернувшись, я постепенно достаю привычные каналы из архива, с опаской, на очень осторожной дистанции принимаюсь снова смотреть кино, но как будто ревную себя к экрану: не хочу больше отчуждать собственные чувства в пользу несуществующих миров.
Теперь я испытываю не свойственное себе отторжение к построению планов. Думаю, что во многом причина столь интенсивного переживания времени в Мексике заключалась в том, что за целый месяц там я ни разу не ждала ни одного дня наперед (ну, разве что, думала периодически о том, что когда-нибудь настанет последний). Такое ожидание — когда, например, в начале декабря уже думаешь о встрече Нового года — обыкновенно скукоживает все предшествующие события, превращает их в незначительный придаток к чему-то самому главному. Но там мы, как будто не прикладывая специальных усилий, умели добывать чудеса из пустяков. Их источником могла стать поездка на Uber, распитие кортадо на порожке кофейни, заботливо добытая к завтраку булочка, приветственное слово, просто так выученное студентом на русском, бесстрашная дорога домой через пропахший травой Paseo Bravo.
Во время одной из последних барных встреч нам снова предложили попросить о чем-нибудь одного из мексиканских святых. Я все думаю о том, что тогда написала на ленте: в чем там можно рассчитывать на богов, которые и без того явно были на моей стороне, а в чем — на себя. И справлюсь ли я с этим в принципе, ведь мой товарищ по переписке мудро добавил: I keep telling myself to be more Mexican, but it is hard without those people around you.
❤74😢3
В июле-августе жизнь малых кинематографических сообществ Петербурга традиционно душится отпускным вакуумом, поэтому редкие события приобретают особую ценность.
Издалека и ненадолго в гости приехал дорогой Леша Артамонов и привез с собой сразу несколько невиданных фильмов — показ Сиросского дневника уже позади, но в понедельник и вторник можно прийти в Кинору на еще два мероприятия.
28 июля (понедельник) в 19.30 смотрим уникальную программу любительских фильмов Узбекской ССР.
Леша лично расскажет, как добывал и оцифровывал все эти работы — опыт, мне кажется, нетривиальный, очень захватывающий сам по себе. Здесь обязательно увидимся!
Вход бесплатный, по регистрации.
29 июля (вторник) тоже в 19.30 Леша прочитает лекцию о практиках работы с фаунд футадж.
Здесь не увидимся, но все равно рекомендую заглянуть.
И тут вход бесплатный, по регистрации.
Издалека и ненадолго в гости приехал дорогой Леша Артамонов и привез с собой сразу несколько невиданных фильмов — показ Сиросского дневника уже позади, но в понедельник и вторник можно прийти в Кинору на еще два мероприятия.
28 июля (понедельник) в 19.30 смотрим уникальную программу любительских фильмов Узбекской ССР.
Сегодня эти короткометражные фильмы представляют собой осколок советской Атлантиды: одновременно документ навсегда ушедшей эпохи и калейдоскоп удивительных частных проявлений стихийного модернизма.
Леша лично расскажет, как добывал и оцифровывал все эти работы — опыт, мне кажется, нетривиальный, очень захватывающий сам по себе. Здесь обязательно увидимся!
Вход бесплатный, по регистрации.
29 июля (вторник) тоже в 19.30 Леша прочитает лекцию о практиках работы с фаунд футадж.
Поговорим о том, как разного рода свидетельства и документы в ходе критической работы могут предъявить нам альтернативную официальной картину прошлого и в то же время приблизить к нам историю, позволив ощутить ее частью нашей собственной жизни.
Здесь не увидимся, но все равно рекомендую заглянуть.
И тут вход бесплатный, по регистрации.
❤22👍3🔥3👀1
Послание к человеку начинает потихоньку анонсировать специальные программы 2025 года, среди которых одна из крутейших будет посвящена петербургской кинокультуре девяностых годов.
Кино, портрет которого очерчивает куратор Егор Сенников (там про перепутье, перелом, туманное пространство, размытые границы), в Петербурге явно начало складываться еще в перестройку, не столько сознательно противореча, сколько настороженно отступая от более жесткой, напористой, решительной интонации фильмов, по которым мы вспоминаем ту разгоряченную, энергичную эпоху — вроде Интердевочки, Ассы, Маленькой Веры. Последние восклицали, обличали, провоцировали, требовали реванша и перемен, смело обживали ранее запретные территории. Но в ленинградском-вот-вот-петербургском кино внятной артикуляции сразу предпочитали бормотание и брожение в текстурах. Экранные ленинградцы / петербуржцы тех лет лишены разом двух важных для подступающей эпохи черт: бунтарства и ловкачества. Люблю в этом смысле незатейливый док Дмитрия Сидорова Братья Серовы — о том, как типичный герой рубежного времени не может совладать с держанием продуктового ларька. Словом, не выработав внятного способа отстаивать себя в мире, который при каждом шаге трескается, как плохо уложенная плитка, горожане как бы согласились слиться с ним, стать элементом общего катаклизма.
Размышляя о том, на что похож этот феномен рубежного ленинградско-петербургского кино, вспомнила о хорошем термине, которые пару лет назад предложил мой студент Лев Уткин. Он писал о mood-driven фильмах, относя к этой категории, например, немецкий экспрессионизм, нуар, новых тихих. Идея была в том, чтобы дополнить известную драматургическую пару plot-driven и character-driven и указать на зону, которая ей не покрывается — на кино, которое не предлагает ни яркой событийности, ни активных характеров, а как будто растворяет, размывает то и другое в структурах топкой среды, обладающей только устойчивым настроением, подчиняющим себе любую частную волю.
Думала, какие образы, формирующие это настроение в петербургском кино девяностых, я помню и люблю — и собрала заблудившийся трамвай, руины старого фонда, силуэты из Панциря, Счастливых дней, Камня и Сна.
P/S. К теме эфемерности Петербурга 90-х вспомнилось, как год назад приехал папа, и мы с ним пошли на Петроградку искать студию, где он в те годы переписывал фильмы на кассеты. Никакой студии, ясное дело, уже не существует, так что план был — отыскать ее призрак, место, где она когда-то располагалась. Подумала, что создание такой хонтологической карты исчезнувших пространств кино- и видеокультуры Петербурга, которая строится только на частных и коллективных воспоминаниях во всей их ненадежности, стало бы хорошим дополнением к программе. Я и правда до сих пор не уверена, что мы тогда справились даже с нашей маленькой задачей. Папины ориентиры оказались такими же зыбкими, как реальность в петербургском кино 90-х: вроде бы направо; кажется, пересекал площадь — квадратную? треугольную?; возможно, эта та самая арка над входом; разведаю у продавщицы (??). Это, впрочем, не мешает мне верить в семейный мираж и до сих пор нежно поглядывать на вывеску Продукты на углу Ординарной и Левашовского с мыслью: вот, значит, откуда пришла ко мне любовь к кино.
Кино, портрет которого очерчивает куратор Егор Сенников (там про перепутье, перелом, туманное пространство, размытые границы), в Петербурге явно начало складываться еще в перестройку, не столько сознательно противореча, сколько настороженно отступая от более жесткой, напористой, решительной интонации фильмов, по которым мы вспоминаем ту разгоряченную, энергичную эпоху — вроде Интердевочки, Ассы, Маленькой Веры. Последние восклицали, обличали, провоцировали, требовали реванша и перемен, смело обживали ранее запретные территории. Но в ленинградском-вот-вот-петербургском кино внятной артикуляции сразу предпочитали бормотание и брожение в текстурах. Экранные ленинградцы / петербуржцы тех лет лишены разом двух важных для подступающей эпохи черт: бунтарства и ловкачества. Люблю в этом смысле незатейливый док Дмитрия Сидорова Братья Серовы — о том, как типичный герой рубежного времени не может совладать с держанием продуктового ларька. Словом, не выработав внятного способа отстаивать себя в мире, который при каждом шаге трескается, как плохо уложенная плитка, горожане как бы согласились слиться с ним, стать элементом общего катаклизма.
Размышляя о том, на что похож этот феномен рубежного ленинградско-петербургского кино, вспомнила о хорошем термине, которые пару лет назад предложил мой студент Лев Уткин. Он писал о mood-driven фильмах, относя к этой категории, например, немецкий экспрессионизм, нуар, новых тихих. Идея была в том, чтобы дополнить известную драматургическую пару plot-driven и character-driven и указать на зону, которая ей не покрывается — на кино, которое не предлагает ни яркой событийности, ни активных характеров, а как будто растворяет, размывает то и другое в структурах топкой среды, обладающей только устойчивым настроением, подчиняющим себе любую частную волю.
Думала, какие образы, формирующие это настроение в петербургском кино девяностых, я помню и люблю — и собрала заблудившийся трамвай, руины старого фонда, силуэты из Панциря, Счастливых дней, Камня и Сна.
P/S. К теме эфемерности Петербурга 90-х вспомнилось, как год назад приехал папа, и мы с ним пошли на Петроградку искать студию, где он в те годы переписывал фильмы на кассеты. Никакой студии, ясное дело, уже не существует, так что план был — отыскать ее призрак, место, где она когда-то располагалась. Подумала, что создание такой хонтологической карты исчезнувших пространств кино- и видеокультуры Петербурга, которая строится только на частных и коллективных воспоминаниях во всей их ненадежности, стало бы хорошим дополнением к программе. Я и правда до сих пор не уверена, что мы тогда справились даже с нашей маленькой задачей. Папины ориентиры оказались такими же зыбкими, как реальность в петербургском кино 90-х: вроде бы направо; кажется, пересекал площадь — квадратную? треугольную?; возможно, эта та самая арка над входом; разведаю у продавщицы (??). Это, впрочем, не мешает мне верить в семейный мираж и до сих пор нежно поглядывать на вывеску Продукты на углу Ординарной и Левашовского с мыслью: вот, значит, откуда пришла ко мне любовь к кино.
❤38❤🔥11👍4🥰1🫡1