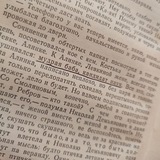Выбрала, пожалуй, лучший момент, чтобы наконец-то прочитать роман Обладать Антонии Байетт, который уже несколько лет без дела стоял на полке. Первые впечатления о нем я записала в тетрадь от руки, сидя на веранде маленького домика посреди соснового леса. Не сказать, что рядом не было телефона, чтобы напечатать заметку, но там — вдали от — хотелось касаться его как можно реже. И текст этому желанию благоволил.
Обладать — книга, переплетающая природу, науку, литературу в единый романтический образ. С первым все ясно: часть повествования Байетт — о викторианской Англии, символом которой для меня остается одинокая, хрупкая женская фигура, вброшенная в природный ландшафт. По паркам, лесам и полям блуждали женщины из романов сестер Бронте (с ними у Обладать много общего). Спустя полтора века тот же образ позаимствует для К реке Оливия Лэнг — тоже, как и герои Байетт, литературоведка, расследующая гибель исчезнувшей в водах Уз Вирджинии Вулф.
Байетт, голосом одной из героинь, и сама рассуждает о связи между природой и женским письмом:
И все же отношения женщин с природой в этих историях парадоксальны, как и она сама. Золотистое поле с нависшей над ним грозовой тучей; неподвижная масса гор и деревья на склонах, гнущиеся от шквального ветра. Им одновременно присущи и умиротворенность, желание раствориться, спрятаться в пейзаже, как в убежище, и обостренное чувство неприкаянного скитальчества. Как книжная девочка, я, произвольно или нет, начинаю ощущать что-то близкое, оказываясь за пределами города: сохраняя покой в теле — сидя на веранде, лежа в гамаке, неспешно передвигаясь по лесу — чувствую, вместе с тем, постоянную внутреннюю взволнованность. Апатия отступает, одновременно обостряются мечтательность и тревожность.
Куда реже в книгах романтизируется наука, а этого у Байетт в избытке. Двое главных героев — англичанин и американка — случайно пересекаются друг с другом в общем литературоведческом интересе и начинают совместный путь. В Обладать хорошо передано то, чем всегда привлекал и волновал меня исследовательский процесс: его базовый, можно даже сказать, структурный, эротизм — интригующая сокрытость и медленное, поступательное разоблачение, продвигающееся на ощупь, без уверенности в финале. Это ощущается как тет-а-тет с предметом исследования, так и в заговорщической работе с другим — как будто на время вы изобретаете язык, которого больше никто не знает.
Впрочем, хотя Обладать оказалась очень приятным чтением, все-таки с книгой не все так безоблачно: как минимум к двум ее особенностям лучше заранее подготовиться.
В тексте есть очень затейливая метафикциональность — он сложно устроен, отчего иногда утомляет: Байетт, меняя регистры, пишет за героев огромные письма, стихи, фрагменты монографий и научных статей. Чтобы это осилить, нужно читать не в метро, а терпеливо, неторопливо. Но что смущает по-настоящему, так это финал: и без того сильно мелодраматичная книга к концу достигает такого уровня сентиментальности, что начинает напоминать последние серии Бедной Насти (там тоже был момент ожидаемого зрителем, но как бы внезапного для героев разоблачения). В качестве коды — описание постельной сцены совсем уж в духе дамских романов в мягкой обложке, массово выходивших у нас в 90-е годы. Здесь цитаты, пожалуй, излишни. Не в книге, так хоть в тексте о ней, пусть останется недосказанность.
Обладать — книга, переплетающая природу, науку, литературу в единый романтический образ. С первым все ясно: часть повествования Байетт — о викторианской Англии, символом которой для меня остается одинокая, хрупкая женская фигура, вброшенная в природный ландшафт. По паркам, лесам и полям блуждали женщины из романов сестер Бронте (с ними у Обладать много общего). Спустя полтора века тот же образ позаимствует для К реке Оливия Лэнг — тоже, как и герои Байетт, литературоведка, расследующая гибель исчезнувшей в водах Уз Вирджинии Вулф.
Байетт, голосом одной из героинь, и сама рассуждает о связи между природой и женским письмом:
Героини женских произведений приятнее всего чувствуют себя в такой местности, которая достаточно открыта, обнажена и одновременно не давит на тебя: небольшие холмы, некрутые подъемы, отдельные пучки растительности, каменистые утесы, возвышающиеся столь ненавязчиво, что об истинной крутизне склонов судить трудно, скрытые расселины, не одно, но многие потаенные отверстия и проходы, из которых свободно сочатся или внутрь которых, также без насилия, пробираются животворящие воды.
И все же отношения женщин с природой в этих историях парадоксальны, как и она сама. Золотистое поле с нависшей над ним грозовой тучей; неподвижная масса гор и деревья на склонах, гнущиеся от шквального ветра. Им одновременно присущи и умиротворенность, желание раствориться, спрятаться в пейзаже, как в убежище, и обостренное чувство неприкаянного скитальчества. Как книжная девочка, я, произвольно или нет, начинаю ощущать что-то близкое, оказываясь за пределами города: сохраняя покой в теле — сидя на веранде, лежа в гамаке, неспешно передвигаясь по лесу — чувствую, вместе с тем, постоянную внутреннюю взволнованность. Апатия отступает, одновременно обостряются мечтательность и тревожность.
Куда реже в книгах романтизируется наука, а этого у Байетт в избытке. Двое главных героев — англичанин и американка — случайно пересекаются друг с другом в общем литературоведческом интересе и начинают совместный путь. В Обладать хорошо передано то, чем всегда привлекал и волновал меня исследовательский процесс: его базовый, можно даже сказать, структурный, эротизм — интригующая сокрытость и медленное, поступательное разоблачение, продвигающееся на ощупь, без уверенности в финале. Это ощущается как тет-а-тет с предметом исследования, так и в заговорщической работе с другим — как будто на время вы изобретаете язык, которого больше никто не знает.
Впрочем, хотя Обладать оказалась очень приятным чтением, все-таки с книгой не все так безоблачно: как минимум к двум ее особенностям лучше заранее подготовиться.
В тексте есть очень затейливая метафикциональность — он сложно устроен, отчего иногда утомляет: Байетт, меняя регистры, пишет за героев огромные письма, стихи, фрагменты монографий и научных статей. Чтобы это осилить, нужно читать не в метро, а терпеливо, неторопливо. Но что смущает по-настоящему, так это финал: и без того сильно мелодраматичная книга к концу достигает такого уровня сентиментальности, что начинает напоминать последние серии Бедной Насти (там тоже был момент ожидаемого зрителем, но как бы внезапного для героев разоблачения). В качестве коды — описание постельной сцены совсем уж в духе дамских романов в мягкой обложке, массово выходивших у нас в 90-е годы. Здесь цитаты, пожалуй, излишни. Не в книге, так хоть в тексте о ней, пусть останется недосказанность.
❤26👍3🔥2
Не знаю, каков мой психологический возраст, но с удовольствием посмотрела первую часть Горизонтов и буду ждать следующих. Это, как говорится, было не просто смело. Кевин Костнер снимает эпический авторский проект о Диком Западе (первые две серии, сделанные не для стримингов, а для кинотеатров, длятся по три часа каждая), в который вложена масса личных средств, что еще раз доказывает, насколько захватывающим может стать для кого-то вестерн как этос, ретротопия, фантазия. В режиссерах, последовательно работавших в этом жанре, — будь то Джон Форд, Клинт Иствуд или, вот, Костнер, — действительно чувствуется какая-то одержимость, бескомпромиссная верность хронотопу. Особенно, если режиссер — еще и актер, и может не только сконструировать этот мир для экрана, но и примерить на себя шляпу, кобуру, нанести на кожу тонкий слой сероватой пыли, оседлать лошадь. При этом Костнер — все-таки не Кеннет Брана, который экранизирует Агату Кристи, лишь чтобы покрасоваться в накладных усах. Его собственная актерская партия в Горизонтах явно еще разовьется, но пока скромна, вполне уравнена в правах с другими персонажами. А их много, разных, интересных, — потому и досадую, отчего это все-таки не сериал.
Горизонты сознательно старомодны, сделаны без намека на осмысленную жанровую ревизию, хотя и с не свойственной вестернам, но свойственной Костнеру гуманистической интонацией: в его фильмах о Диком Западе, как и положено, есть жестокость, но едва ли заметно любование ей. Местами повествование выглядит очень рваным, как бы парадоксально это ни звучало с учетом хронометража. Некоторые сюжетные линии и мизансцены хочется буквально растянуть вручную, насильно удержать камеру подольше на чьем-нибудь эффектном лице. Некоторые — напротив, подрезать, чтобы не распалять зря любопытство, которое все равно не получится удовлетворить. Впрочем, может быть, двухминутные перформансы некоторых героев, пулеметно сменяющих друг друга в первые сорок минут, пока фильм еще не разгладился, вполне укладываются в концепт — Дикий Запад как мир, в котором люди живут ярко, но коротко. Интересно ли это? В целом, если сразу занять позицию благосклонного зрителя, которому просто нравятся вестерны, да, вполне. Свежо ли? Не слишком, будем честны.
Но ведь фанатам жанра часто хочется не новизны, а повторения. Еще лет пять назад не подумала бы, что смогу когда-нибудь отнести себя к числу любителей вестерна, но от полного равнодушия за последние годы развернулась к повышенной заинтересованности в нем. Во-первых, благодаря прохождению Red Dead Redemption, которое заняло у меня где-то полгода. Там впервые прочувствовала настоящее, длительное наслаждение от пребывания в вестерновом сеттинге. Раньше он казался мне запредельно далеким от моих реалий и слишком искусственным — как полузаброшенный парк аттракционов в провинции. К тому же слишком мачистским (ощущение, что мир вестерна — мир мужской, не вытравят никакие современные фемревизии). Но оказалось, что скакать на любимой лошади по неизведанным землям, готовить добытую еду на костре, убегать по болотам от аллигаторов и от законников по пыльным железнодорожным мостам, бродить по улицам маленьких еще городков и откликаться на хрипловатое hey, partner — чертовски приятно. Жить в таком мире не хочется, но воображать себя в нем, сохраняя безопасную дистанцию, еще как.
Второй поворотный момент в отношении к вестернам — просмотр Человек, который застрелил Либерти Вэланса. Фильм, в котором легендарный Джон Форд на исходе карьеры самостоятельно производит очень тонкую ревизию жанра: показывает, как анархический индивидуализм настоящего вестернера неизбежно сдается подступающим регламентам цивилизации, но не умирает — остается коллективным мифом, мечтой одиночек, потаенной народной тягой к героям с волевым характером и сильной рукой. Можно по-разному к этому относиться, но думать об этом интересно, в том числе, и в современном контексте.
Собственно, предсказуемый провал Горизонтов даже идет этому проекту — как раз оттого, что в нем тоже есть какая-то уязвимая лихость, отчаянная мечта, обреченная на фиаско.
Горизонты сознательно старомодны, сделаны без намека на осмысленную жанровую ревизию, хотя и с не свойственной вестернам, но свойственной Костнеру гуманистической интонацией: в его фильмах о Диком Западе, как и положено, есть жестокость, но едва ли заметно любование ей. Местами повествование выглядит очень рваным, как бы парадоксально это ни звучало с учетом хронометража. Некоторые сюжетные линии и мизансцены хочется буквально растянуть вручную, насильно удержать камеру подольше на чьем-нибудь эффектном лице. Некоторые — напротив, подрезать, чтобы не распалять зря любопытство, которое все равно не получится удовлетворить. Впрочем, может быть, двухминутные перформансы некоторых героев, пулеметно сменяющих друг друга в первые сорок минут, пока фильм еще не разгладился, вполне укладываются в концепт — Дикий Запад как мир, в котором люди живут ярко, но коротко. Интересно ли это? В целом, если сразу занять позицию благосклонного зрителя, которому просто нравятся вестерны, да, вполне. Свежо ли? Не слишком, будем честны.
Но ведь фанатам жанра часто хочется не новизны, а повторения. Еще лет пять назад не подумала бы, что смогу когда-нибудь отнести себя к числу любителей вестерна, но от полного равнодушия за последние годы развернулась к повышенной заинтересованности в нем. Во-первых, благодаря прохождению Red Dead Redemption, которое заняло у меня где-то полгода. Там впервые прочувствовала настоящее, длительное наслаждение от пребывания в вестерновом сеттинге. Раньше он казался мне запредельно далеким от моих реалий и слишком искусственным — как полузаброшенный парк аттракционов в провинции. К тому же слишком мачистским (ощущение, что мир вестерна — мир мужской, не вытравят никакие современные фемревизии). Но оказалось, что скакать на любимой лошади по неизведанным землям, готовить добытую еду на костре, убегать по болотам от аллигаторов и от законников по пыльным железнодорожным мостам, бродить по улицам маленьких еще городков и откликаться на хрипловатое hey, partner — чертовски приятно. Жить в таком мире не хочется, но воображать себя в нем, сохраняя безопасную дистанцию, еще как.
Второй поворотный момент в отношении к вестернам — просмотр Человек, который застрелил Либерти Вэланса. Фильм, в котором легендарный Джон Форд на исходе карьеры самостоятельно производит очень тонкую ревизию жанра: показывает, как анархический индивидуализм настоящего вестернера неизбежно сдается подступающим регламентам цивилизации, но не умирает — остается коллективным мифом, мечтой одиночек, потаенной народной тягой к героям с волевым характером и сильной рукой. Можно по-разному к этому относиться, но думать об этом интересно, в том числе, и в современном контексте.
Собственно, предсказуемый провал Горизонтов даже идет этому проекту — как раз оттого, что в нем тоже есть какая-то уязвимая лихость, отчаянная мечта, обреченная на фиаско.
❤27👍1🔥1😐1
Я видел свечение телевизора это:
— питерпэновская история об упрямстве хрупких, тех, кто уверен, что именно им жизнь уготовила другой сценарий;
— близкий родственник Гуммо, Донни Дарко, Хлеба с ветчиной: фильм, точно схватывающий реальность тревоги и страха и кристаллизующий ее в уникальных макабрических образах, которые со временем становятся культовыми;
— фильм, принципиально амбивалентный: очень печальный, но совсем не безнадежный; удивительно бережный к интимным переживаниям, но суровый к инфантильной наивности; филигранно воссоздающий ностальгические образы подростковых тв-сериалов и тут же разрушающий магию собственного творения;
— гармоничное слияние личного стиля Джейн Шебрун (медиальные помехи) и эстетики студии А24 (последняя хоть и поднадоела своим вибрирующим в темноте неоном и дизайнерски выверенными мизансценами, но все еще отчего-то вызывает симпатию);
— фильм, который легко воспринимать буквально, но оставляющий пространство для небанальной иносказательности самого разного толка.
— питерпэновская история об упрямстве хрупких, тех, кто уверен, что именно им жизнь уготовила другой сценарий;
— близкий родственник Гуммо, Донни Дарко, Хлеба с ветчиной: фильм, точно схватывающий реальность тревоги и страха и кристаллизующий ее в уникальных макабрических образах, которые со временем становятся культовыми;
— фильм, принципиально амбивалентный: очень печальный, но совсем не безнадежный; удивительно бережный к интимным переживаниям, но суровый к инфантильной наивности; филигранно воссоздающий ностальгические образы подростковых тв-сериалов и тут же разрушающий магию собственного творения;
— гармоничное слияние личного стиля Джейн Шебрун (медиальные помехи) и эстетики студии А24 (последняя хоть и поднадоела своим вибрирующим в темноте неоном и дизайнерски выверенными мизансценами, но все еще отчего-то вызывает симпатию);
— фильм, который легко воспринимать буквально, но оставляющий пространство для небанальной иносказательности самого разного толка.
❤31👍4