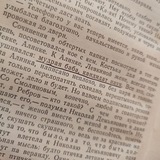Журнал Синетикль в эти выходные выпустил новый номер. Выпуск № 28 — про призраков (в кино и не только). Редактор Алексей Тютькин собрал такую команду авторов, которую в нынешних условиях очень сложно представить. Но, вот, она существует — и это сильнее многих ободряющих слов, что мы ежедневно друг другу повторяем, позволяет верить, что мир когда-нибудь починится.
Содержательно номер грандиозный и очень (!) разнообразный: с авторскими теоретическими и критическими текстами, серией видеоэссе, переводами и даже прозой. С темой тоже все сложилось удивительно: про призраков много и однообразно говорят, но тут к привычным нарративам добавилось столько новых интуиций и неожиданных ракурсов, что удалось обойти все общие места.
Мой текст вот здесь — отчасти по его мотивам была прочитана недавняя лекция про нечеловеческого наблюдателя. Сперва я написала о последнем диссертацию, а потом, когда все сломалось, стала думать, есть ли у так описанной сущности кино какой-то политический потенциал. Мысль, скорее, удалось схватить, чем финализировать, но все же мне сейчас и это кажется важным.
«Фотографии сохраняют, и в этом они по самой своей сути противоположны интенциям палачей».
Содержательно номер грандиозный и очень (!) разнообразный: с авторскими теоретическими и критическими текстами, серией видеоэссе, переводами и даже прозой. С темой тоже все сложилось удивительно: про призраков много и однообразно говорят, но тут к привычным нарративам добавилось столько новых интуиций и неожиданных ракурсов, что удалось обойти все общие места.
Мой текст вот здесь — отчасти по его мотивам была прочитана недавняя лекция про нечеловеческого наблюдателя. Сперва я написала о последнем диссертацию, а потом, когда все сломалось, стала думать, есть ли у так описанной сущности кино какой-то политический потенциал. Мысль, скорее, удалось схватить, чем финализировать, но все же мне сейчас и это кажется важным.
«Фотографии сохраняют, и в этом они по самой своей сути противоположны интенциям палачей».
Cineticle | Интернет-журнал об авторском кино
Выпуск №28
ПРИЗРАКИ СУЩЕСТВУЮТ
❤28
Опубликовала в Медиа Школы дизайна второй материал про личную документалистику. В этот раз концентрируюсь на перформативности, на том, как в ходе создания документального фильма режиссер становится режиссером — на примере Годара, Керстен Джонсон и Майкла Мура. Почитать можно по ссылке.
Любой режиссер, снимающий документальный фильм о самом себе, создает одновременно и фильм, и самого себя — кинематографический образ, который будет фигурировать в коммуникативном пространстве. Однако среди всех возможных качеств, что мы можем распознать в таком авторском портрете, есть основное, носящее наиболее явно перформативный характер. Человек, снимающий фильм, — режиссер. И, ровно как батлеровская женщина, он становится режиссером не заранее, а именно в ходе взаимодействия с кино. Потому неудивительно, что во многих случаях снять перформативный фильм — означает рассказать о себе как кинематографисте, застигнутом в процессе работы.
Любой режиссер, снимающий документальный фильм о самом себе, создает одновременно и фильм, и самого себя — кинематографический образ, который будет фигурировать в коммуникативном пространстве. Однако среди всех возможных качеств, что мы можем распознать в таком авторском портрете, есть основное, носящее наиболее явно перформативный характер. Человек, снимающий фильм, — режиссер. И, ровно как батлеровская женщина, он становится режиссером не заранее, а именно в ходе взаимодействия с кино. Потому неудивительно, что во многих случаях снять перформативный фильм — означает рассказать о себе как кинематографисте, застигнутом в процессе работы.
design.hse.ru
В объективе «я»: режиссерская перформативность в документальном кино
В рубрике, посвященной экспериментальной документалистике, продолжаем рассказывать о различных режиссерских стратегиях, позволяющих сделать личный опыт частью своего кинематографического проекта. Дарина Поликарпова, отталкиваясь от концепций Джона Остина…
❤14❤🔥7
Три летних месяца в Школе искусств и креативных индустрий будет идти экспресс-курс для режиссеров «От рефлексии к практике: короткий метр». Все занятия проходят онлайн, так что совмещать учебу с перемещениями будет легко. Алиса Ерохина и Галя Лурье отвечают за практику (очень ценна концепция индивидуального кураторства, которая действительно воплощается!), я — за лекционный курс по истории-теории кино.
Мои отношения с ШИКИ начались в ноябре и длятся до сих пор. Все это время я работаю со студентами, вписавшимися с восьмимесячный курс режиссуры, и вижу, что энтузиазм их за такой долгий срок нисколько не угас. Наоборот — с каждой лекцией, по крайней мере, — с постоянными участниками — общаться становится все интереснее и теплее. Вообще, это был (и, надеюсь, продолжится!) очень классный опыт преподавания вне университета, куда люди приходят учиться с очень разным бэкграундом. Мне кажется, такой путь помогает избавиться от консервации сообщества, которую все мы, возможно, опрометчиво лелеем в стенах закрытых факультетов.
Уверена, что этот краткий летний курс для кого-то станет доступной и очень комфортной точкой входа в кино. И хотя ясно, что практика здесь важнее, обещаю поделиться не менее вдохновляющими и нужными для процесса теоретическими и историческими сюжетами.
Чтобы подать заявку, перейдите на сайт.
Мои отношения с ШИКИ начались в ноябре и длятся до сих пор. Все это время я работаю со студентами, вписавшимися с восьмимесячный курс режиссуры, и вижу, что энтузиазм их за такой долгий срок нисколько не угас. Наоборот — с каждой лекцией, по крайней мере, — с постоянными участниками — общаться становится все интереснее и теплее. Вообще, это был (и, надеюсь, продолжится!) очень классный опыт преподавания вне университета, куда люди приходят учиться с очень разным бэкграундом. Мне кажется, такой путь помогает избавиться от консервации сообщества, которую все мы, возможно, опрометчиво лелеем в стенах закрытых факультетов.
Уверена, что этот краткий летний курс для кого-то станет доступной и очень комфортной точкой входа в кино. И хотя ясно, что практика здесь важнее, обещаю поделиться не менее вдохновляющими и нужными для процесса теоретическими и историческими сюжетами.
Чтобы подать заявку, перейдите на сайт.
ШИКИ
Онлайн-курс режиссуры игрового кино «От рефлексии к практике»
Летний онлайн-курс «От рефлексии к практике» в Школе искусств и креативных индустрий. Начало занятий: 2 июня 2024
❤16👍1
— книги
Оксана Васякина. Роза.
Моя подруга М. говорит, что ей нравится Рана, но не нравится Степь — там слишком много нарочитых метафор. Моей подруге О. Степь нравится больше, чем Рана — чья подчеркнуто откровенная манера порой вызывала неловкость. Я одинаково люблю оба текста, хотя и согласна, что они разные. Видимо, мне важны не только книги, но и сама Оксана Васякина, иначе, пожалуй, пришлось бы признать, что Роза, в отличие от Раны и Степи, мне не понравилась. Но я так сказать не могу.
В Розе Васякина повторяет прежние мотивы: про то, как становиться отражающей поверхностью, изучать себя через взаимодействие с близкими и природой. Но тянутся они как будто по инерции, потому что в прежних текстах она не просто отражала (как, например, делает это Рейчел Каск, пользуясь метафорой контура), но преломляла то, что ее окружало. То есть речь все же идет о преобразовательном и утверждающем тексте, написанном с позиции повышенной чувствительности к миру, которая, вместе с тем, лишена пассивной восприимчивости и стремления только лишь к регистрации.
Здесь же Васякина сама признается, что образ тети, который она пытается приблизить, все время от нее ускользает: она воспроизводит фрагменты воспоминаний, улавливает сходство между ними двумя — очевидными аутсайдерками семьи — но он так и остается слишком невнятным триггером, на существование которого можно только указывать. Но рассказать об этом в активном модусе преломления попросту не удается. И задача текста — описывать себя и рассуждать о себе через других — достигается через провал: кажется, что сама Васякина в этот раз находит себя такой же потерянной, невнятной и отчужденной, как и тетка-Светлана.
Есть ощущение, что Роза вообще оказалась не такой, какой задумывалась — будто бы идея семейной трилогии возникла когда-то в другом времени, а в этом её просто пришлось довести до конца, половиной текста расписываясь в невозможности это сделать (в самой книге на это есть прямые указания — конкретный год и месяц, с которых стартовали дни, проведенные на диване, глядя в потолок). Васякина, конечно, и в Ране все время задавала вопросы движению своего письма, но там они органично вошли в тело текста, так что констатация мучительности процесса превращалась в один из самых притягательных мотивов повествования. Но в Розе все не так — тут видно, что писать действительно мучительно, и текст не вдохновляется этим, а рождается вопреки, как перевернутый ребенок. Даже название в этот раз вышло каким-то блеклым, будто взятым наугад (удивительно, но ровно эту интуицию подтверждают последние страницы).
Вместе с тем, литературная хрупкость Розы для меня делает саму Васякину ещё ближе, отношение к ней — еще нежнее. Если важной чертой восприятия личного письма является доверие к автору, то здесь — оттого, что мне, читателю, позволяют стать свидетелем неудачи — оно только ощутилось теснее. В этом тексте, ко всему прочему, много следов из осторожности ненаписанного — и это тоже про уязвимость, которая понятна без слов любому, кто в публичной речи прячет травмирующее событие в монтажную склейку и вместо этого описывает, каким чувством оно отдаётся.
Словом, некоторые вещи мы делаем для того, чтобы не простаивать: в момент, когда ты ничего не можешь, необходимо убедить себя в том, что ты можешь хотя бы что-нибудь. И мне кажется, Роза — это и есть книга, написанная в таком зазоре, в состоянии расколотости, которое я понимаю, разделяю и с благодарностью принимаю не просто его описание — но демонстрацию усилия что-то создать изнутри.
Оксана Васякина. Роза.
Моя подруга М. говорит, что ей нравится Рана, но не нравится Степь — там слишком много нарочитых метафор. Моей подруге О. Степь нравится больше, чем Рана — чья подчеркнуто откровенная манера порой вызывала неловкость. Я одинаково люблю оба текста, хотя и согласна, что они разные. Видимо, мне важны не только книги, но и сама Оксана Васякина, иначе, пожалуй, пришлось бы признать, что Роза, в отличие от Раны и Степи, мне не понравилась. Но я так сказать не могу.
В Розе Васякина повторяет прежние мотивы: про то, как становиться отражающей поверхностью, изучать себя через взаимодействие с близкими и природой. Но тянутся они как будто по инерции, потому что в прежних текстах она не просто отражала (как, например, делает это Рейчел Каск, пользуясь метафорой контура), но преломляла то, что ее окружало. То есть речь все же идет о преобразовательном и утверждающем тексте, написанном с позиции повышенной чувствительности к миру, которая, вместе с тем, лишена пассивной восприимчивости и стремления только лишь к регистрации.
Здесь же Васякина сама признается, что образ тети, который она пытается приблизить, все время от нее ускользает: она воспроизводит фрагменты воспоминаний, улавливает сходство между ними двумя — очевидными аутсайдерками семьи — но он так и остается слишком невнятным триггером, на существование которого можно только указывать. Но рассказать об этом в активном модусе преломления попросту не удается. И задача текста — описывать себя и рассуждать о себе через других — достигается через провал: кажется, что сама Васякина в этот раз находит себя такой же потерянной, невнятной и отчужденной, как и тетка-Светлана.
Есть ощущение, что Роза вообще оказалась не такой, какой задумывалась — будто бы идея семейной трилогии возникла когда-то в другом времени, а в этом её просто пришлось довести до конца, половиной текста расписываясь в невозможности это сделать (в самой книге на это есть прямые указания — конкретный год и месяц, с которых стартовали дни, проведенные на диване, глядя в потолок). Васякина, конечно, и в Ране все время задавала вопросы движению своего письма, но там они органично вошли в тело текста, так что констатация мучительности процесса превращалась в один из самых притягательных мотивов повествования. Но в Розе все не так — тут видно, что писать действительно мучительно, и текст не вдохновляется этим, а рождается вопреки, как перевернутый ребенок. Даже название в этот раз вышло каким-то блеклым, будто взятым наугад (удивительно, но ровно эту интуицию подтверждают последние страницы).
Вместе с тем, литературная хрупкость Розы для меня делает саму Васякину ещё ближе, отношение к ней — еще нежнее. Если важной чертой восприятия личного письма является доверие к автору, то здесь — оттого, что мне, читателю, позволяют стать свидетелем неудачи — оно только ощутилось теснее. В этом тексте, ко всему прочему, много следов из осторожности ненаписанного — и это тоже про уязвимость, которая понятна без слов любому, кто в публичной речи прячет травмирующее событие в монтажную склейку и вместо этого описывает, каким чувством оно отдаётся.
Словом, некоторые вещи мы делаем для того, чтобы не простаивать: в момент, когда ты ничего не можешь, необходимо убедить себя в том, что ты можешь хотя бы что-нибудь. И мне кажется, Роза — это и есть книга, написанная в таком зазоре, в состоянии расколотости, которое я понимаю, разделяю и с благодарностью принимаю не просто его описание — но демонстрацию усилия что-то создать изнутри.
❤27👍4
Вместе со многими радуюсь новым сериям Шершней и Теда Лассо, храню приятные впечатления от просмотра Короля и шута и Актрис, но сердечко мое в эти дни с менее приметным сериалом Счастливчик Хэнк — про преподавателя и завкафа среднего американского колледжа, писателя с единственным давнишним романом в портфолио. И дело не только в том, что главную роль там играет Боб Оденкерк, а мне, как фанатке Во все тяжкие и Лучше звоните Солу, приятно смотреть на любого актера, связанного с этим миром.
У меня в принципе есть базовая расположенность к фильмам и книгам про университетскую среду, к которой я, так или иначе, принадлежу. Тем более, что тут она показана довольно точно: без романтизации и привычных клише. Вскрывается это, конечно, в мелочах.
Преподаватель, например, начинает занятия с приветствия, сидит со студентами за одним столом в тесной аудитории и обсуждает их тексты спокойным тоном, а не выводит размашистым почерком что-нибудь на доске в огромном лектории и не произносит поставленным голосом банальные абстракции из вк-пабликов, за которые студенческая публика с чего-то вдруг начинает его обожать или ненавидеть. Ну, правда, обычно репрезентация занятий по гуманитарным дисциплинам — это кринж полный. Даже недавняя Кафедра, которую многие мои коллеги полюбили как раз за правдоподобие, грешила огромным количеством подобных условностей.
Преподаватели департамента, который Хэнк возглавляет, тоже вполне сопоставимы с типажами, встречающимися в такой среде: есть пожилые, явно уставшие от работы сотрудники; есть молодые, для которых важный вопрос — переведут ли в штат с договора ГПХ; есть буквально одна персонажка не в меру пафосная, беспредельно восхищенная предметом своих исследований, как довлатовская пушкинистка; есть техничные в деле и амбициозно-циничные в отношениях карьеристы. Все они нормально уживаются в одном пространстве, хотя и не особенно друг друга любят. Но нет здесь никаких высокопарных героев, тоже, опять же, привычных для подобного сеттинга. Вроде молодого преподавателя со светлым и решительным взглядом или мужчины с негативной харизмой, который напивается накануне и вваливается на следующий день в переполненный лекторий, цитируя Ницше и Достоевского.
Еще замечательны эпизоды, в которых показываются конкретные академические практики. В одном, например, Хэнк поддается уговорам товарища и едет на филологическую конференцию, где все его коллеги собираются в маленьких кабинетиках и в присутствии семи пришедших на секцию гостей тешат себя иллюзией, что прямо сейчас совершают революцию в науке. Эпизод очень смешной и точный, еще лучше — сам Хэнк, хотя и надевающий на шею бейджик, но старающийся держаться от всего происходящего на иронической дистанции и убедить слишком уж серьезно настроенного друга, что только возможность втихую смеяться над общим пафосом делает пребывание на таких мероприятиях более-менее сносным.
Впрочем, товарищ отвечает ему неожиданно: Хэнк, мол, слишком увлекся стремлением держаться в стороне от коллег и академических ритуалов — так что в итоге сам не заметил, как начал отчуждаться от собственного труда, мысленно исключил себя из своего же сообщества, но так и не придумал ничего ему взамен.
И, конечно, главный герой — это вторая причина увлечься сериалом. Его кризис проработан гораздо точнее, чем привычные для таких историй драматургические ходы про непризнанных гениев / идеалистов в борьбе с руководством / людей, решивших побороть свои проблемы с помощью романтических отношений с кем-нибудь из студентов.
...но на этом моменте я умолкаю, чтобы не спешить с личными параллелями, которые в воскресенье — когда организм особенно настойчиво напоминает, что алкоголь — это, в первую очередь, депрессант — кажутся мне особенно колкими и болезненными.
В общем, кто в теме, посмотрите сериал на досуге.
У меня в принципе есть базовая расположенность к фильмам и книгам про университетскую среду, к которой я, так или иначе, принадлежу. Тем более, что тут она показана довольно точно: без романтизации и привычных клише. Вскрывается это, конечно, в мелочах.
Преподаватель, например, начинает занятия с приветствия, сидит со студентами за одним столом в тесной аудитории и обсуждает их тексты спокойным тоном, а не выводит размашистым почерком что-нибудь на доске в огромном лектории и не произносит поставленным голосом банальные абстракции из вк-пабликов, за которые студенческая публика с чего-то вдруг начинает его обожать или ненавидеть. Ну, правда, обычно репрезентация занятий по гуманитарным дисциплинам — это кринж полный. Даже недавняя Кафедра, которую многие мои коллеги полюбили как раз за правдоподобие, грешила огромным количеством подобных условностей.
Преподаватели департамента, который Хэнк возглавляет, тоже вполне сопоставимы с типажами, встречающимися в такой среде: есть пожилые, явно уставшие от работы сотрудники; есть молодые, для которых важный вопрос — переведут ли в штат с договора ГПХ; есть буквально одна персонажка не в меру пафосная, беспредельно восхищенная предметом своих исследований, как довлатовская пушкинистка; есть техничные в деле и амбициозно-циничные в отношениях карьеристы. Все они нормально уживаются в одном пространстве, хотя и не особенно друг друга любят. Но нет здесь никаких высокопарных героев, тоже, опять же, привычных для подобного сеттинга. Вроде молодого преподавателя со светлым и решительным взглядом или мужчины с негативной харизмой, который напивается накануне и вваливается на следующий день в переполненный лекторий, цитируя Ницше и Достоевского.
Еще замечательны эпизоды, в которых показываются конкретные академические практики. В одном, например, Хэнк поддается уговорам товарища и едет на филологическую конференцию, где все его коллеги собираются в маленьких кабинетиках и в присутствии семи пришедших на секцию гостей тешат себя иллюзией, что прямо сейчас совершают революцию в науке. Эпизод очень смешной и точный, еще лучше — сам Хэнк, хотя и надевающий на шею бейджик, но старающийся держаться от всего происходящего на иронической дистанции и убедить слишком уж серьезно настроенного друга, что только возможность втихую смеяться над общим пафосом делает пребывание на таких мероприятиях более-менее сносным.
Впрочем, товарищ отвечает ему неожиданно: Хэнк, мол, слишком увлекся стремлением держаться в стороне от коллег и академических ритуалов — так что в итоге сам не заметил, как начал отчуждаться от собственного труда, мысленно исключил себя из своего же сообщества, но так и не придумал ничего ему взамен.
И, конечно, главный герой — это вторая причина увлечься сериалом. Его кризис проработан гораздо точнее, чем привычные для таких историй драматургические ходы про непризнанных гениев / идеалистов в борьбе с руководством / людей, решивших побороть свои проблемы с помощью романтических отношений с кем-нибудь из студентов.
...но на этом моменте я умолкаю, чтобы не спешить с личными параллелями, которые в воскресенье — когда организм особенно настойчиво напоминает, что алкоголь — это, в первую очередь, депрессант — кажутся мне особенно колкими и болезненными.
В общем, кто в теме, посмотрите сериал на досуге.
❤43👍1
Не испытываю восторгов от нового (да и от старых работ, честно говоря) фильма Клер Дени, но не могла отделаться от чувства, что есть в нем что-то для меня притягательное. Несмотря на политическую сомнительность сюжетов про скитания белого американца / европейца по пустыням, степям, выжженным на солнце пепельно-охристым, рассыпчатым улицам, во мне сам этот образ, даже вне сюжетного контекста, всегда отзывается.
Пожалуй, по двум причинам: от любви к роману Пола Боулза Под покровом небес, с которым все подобные фильмы перекликаются, и из-за того, что такая эстетика сильнее всего ассоциируется с моими собственными путешествиями, особенно — в момент, когда я в них ограничена. Помню, Боулза я читала в разгар первого пандемийного карантина, а Дени и, например, Закат Мишеля Франко — смотрела в течение последнего года.
Может быть, это из-за того, что иногда чтение и просмотр я использую, чтобы притянуть некоторые состояния из прошлого — раз уж не могу их заново пережить. Для меня путешествия за границу долгое время ассоциировались с жарой и одиночеством (до недавней поездки в Армению я всегда оказывалась вне России летом и жила там одна). Несколько моих путешествий в жару вели в европейские города (то есть, об экзотике речи не было). Они были разной степени суетности, но через меня эти степени никогда не проходили, потому что, если я выезжаю за границу, то моментально оказываюсь в пузыре: я не понимаю чужой язык, исчезают почти все поводы воспользоваться своим, город осваиваю интуитивно, постоянно гуляю, перебегания от часа к часу не чувствую. Жара остается единственным компаньоном, чье присутствие я постоянно ощущаю, с ней мне приходится уживаться, под нее подстраивать собственное тело. С этой чужеземной жарой я готова мириться, хотя дома бегу от нее. В такие моменты она становится для меня единственной координатой — только благодаря ей я чувствую время, по тому, как она набирает силу, а потом постепенно спадает.
Бывало, я уезжала из дома с мыслью, что отъезд даст мне возможность что-то о себе понять (другой штамп, пришедший из кино). Но случалось обратное — все останавливалось в этой жаре, она иссушала меня, иссушала отношения с другими и поводы думать, а я понимала, что приехала не за решением, а как раз за его отсрочкой. У Боулза Кит спешит потеряться в пустыне, а насильно вырванная оттуда отказывается открывать глаза, потому что произойди это, «и все: она окажется беззащитной перед жутким образом себя и навалится боль».
В путешествиях всякий свой образ меня наконец-то отпускает. Все становится ландшафтом, и каким-то чудом ничто человеческое не возвращает мой взгляд — и я забываю, что на меня вообще могут смотреть и чего-то ждать, освобождаюсь от этого изнуряющего, часто выдуманного мной самой внимания.
В общем, Закат и Звезды в полдень — для меня тоже, в первую очередь, не про желание затеряться в экзотике, а про жару, рождающую одиночество и отчужденность. И, по сути, даже в своем городе в особенно жаркие дни я могу часто бродить вот так: ощущая все незнакомым. Очень жду их.
Пожалуй, по двум причинам: от любви к роману Пола Боулза Под покровом небес, с которым все подобные фильмы перекликаются, и из-за того, что такая эстетика сильнее всего ассоциируется с моими собственными путешествиями, особенно — в момент, когда я в них ограничена. Помню, Боулза я читала в разгар первого пандемийного карантина, а Дени и, например, Закат Мишеля Франко — смотрела в течение последнего года.
Может быть, это из-за того, что иногда чтение и просмотр я использую, чтобы притянуть некоторые состояния из прошлого — раз уж не могу их заново пережить. Для меня путешествия за границу долгое время ассоциировались с жарой и одиночеством (до недавней поездки в Армению я всегда оказывалась вне России летом и жила там одна). Несколько моих путешествий в жару вели в европейские города (то есть, об экзотике речи не было). Они были разной степени суетности, но через меня эти степени никогда не проходили, потому что, если я выезжаю за границу, то моментально оказываюсь в пузыре: я не понимаю чужой язык, исчезают почти все поводы воспользоваться своим, город осваиваю интуитивно, постоянно гуляю, перебегания от часа к часу не чувствую. Жара остается единственным компаньоном, чье присутствие я постоянно ощущаю, с ней мне приходится уживаться, под нее подстраивать собственное тело. С этой чужеземной жарой я готова мириться, хотя дома бегу от нее. В такие моменты она становится для меня единственной координатой — только благодаря ей я чувствую время, по тому, как она набирает силу, а потом постепенно спадает.
Бывало, я уезжала из дома с мыслью, что отъезд даст мне возможность что-то о себе понять (другой штамп, пришедший из кино). Но случалось обратное — все останавливалось в этой жаре, она иссушала меня, иссушала отношения с другими и поводы думать, а я понимала, что приехала не за решением, а как раз за его отсрочкой. У Боулза Кит спешит потеряться в пустыне, а насильно вырванная оттуда отказывается открывать глаза, потому что произойди это, «и все: она окажется беззащитной перед жутким образом себя и навалится боль».
В путешествиях всякий свой образ меня наконец-то отпускает. Все становится ландшафтом, и каким-то чудом ничто человеческое не возвращает мой взгляд — и я забываю, что на меня вообще могут смотреть и чего-то ждать, освобождаюсь от этого изнуряющего, часто выдуманного мной самой внимания.
В общем, Закат и Звезды в полдень — для меня тоже, в первую очередь, не про желание затеряться в экзотике, а про жару, рождающую одиночество и отчужденность. И, по сути, даже в своем городе в особенно жаркие дни я могу часто бродить вот так: ощущая все незнакомым. Очень жду их.
❤9👏5👍4
С месяц назад посмотрела фильм Тетрис — про то, как американский бизнесмен Хэнк Роджерс борется с конкурентами за права на лицензионную версию знаменитой советской игры. Пару дней назад познакомилась с Air: Большой прыжок — там рассказывается, как представители компании Nike заключают самый выгодный в истории своего существования рекламный контракт с Майклом Джорданом и запускают знаменитую линию кроссовок Air Jordan. Первый фильм вызвал у меня недоумение, но решила не душнить, но второй просмотр настолько обескуражил, что необходимо выговориться.
Не могу понять, в какой момент истории про то, как крупная компания заключает миллиардную сделку — пусть и пробираясь, по канонам стандартной голливудской драматургии, ради этого через тернии к звездам — стало достаточно для создания фильма? Сюжеты про большие деньги в Голливуде появились давно, в какой-то период (эпоха яппи 80-90х, например) даже стали очень популярным мотивом (Уолл-стрит, Фирма, Джерри Магуайер). Вместе с тем, не припомню, чтобы тема выгодных контрактов где-либо становилась ключевой — ей всегда сопутствовало что-то еще, она переплеталась с индивидуальными судьбами героев, их размышлениями о важном и неважном, темами мужества, преодоления, дружбы, предательства — вариантов много. Далеко не всегда, кстати, обогащение безусловно приравнивалось к счастью, порой — даже противопоставлялось.
Но в Тетрисе и, особенно, в Air вообще нет ничего, кроме денег, никакого иного измерения человеческих отношений (если взять в скобки рудиментарную линию с эвакуацией Пажитного из СССР, к которой тоже много вопросов). В Air даже традиционные финальные титры, рассказывающие, как дальше сложилась судьба героев, сообщают только, сколько миллионов каждый из них заработал.
Это странное впечатление еще более усугубляется тем, что в остальном фильмы задействуют самые стандартные нарративные триггеры для манипуляций со зрительскими эмоциями. Например, пафосный смысложизненный монолог, кульминационная сцена с оттенком саспенса (успеет или не успеет сесть на самолет с подписанным контрактом? согласится или не согласится босс платить Джордану проценты с продаж?) или приятное расслабление в конце (фух, все получилось!). Я же, чувствуя, как меня принуждают сопереживать достаточно безликим представителям крупнейших международных компаний и ликовать вместе с ними, когда ручка, наконец, заскребет по заветной бумаге, испытываю недоумение, если не сказать раздражение.
Не знаю, может, всему виной несократимая дистанция между мной и большим бизнесом, может — разница культурных контекстов. В Тетрисе, например, все проблемы крутятся вокруг борьбы с пиратством, которая в России вообще не особо актуальна, а вот Хито Штейрль в статье Заметки о spamsoc делилась забавным наблюдением, что в американском политическом дискурсе пиратство часто увязывается с терроризмом. В общем, не знаю, меня даже перипетии Марфы Лапкиной в отношениях с молочным сепаратором вдохновляли больше, чем вот это вот всё.
Не могу понять, в какой момент истории про то, как крупная компания заключает миллиардную сделку — пусть и пробираясь, по канонам стандартной голливудской драматургии, ради этого через тернии к звездам — стало достаточно для создания фильма? Сюжеты про большие деньги в Голливуде появились давно, в какой-то период (эпоха яппи 80-90х, например) даже стали очень популярным мотивом (Уолл-стрит, Фирма, Джерри Магуайер). Вместе с тем, не припомню, чтобы тема выгодных контрактов где-либо становилась ключевой — ей всегда сопутствовало что-то еще, она переплеталась с индивидуальными судьбами героев, их размышлениями о важном и неважном, темами мужества, преодоления, дружбы, предательства — вариантов много. Далеко не всегда, кстати, обогащение безусловно приравнивалось к счастью, порой — даже противопоставлялось.
Но в Тетрисе и, особенно, в Air вообще нет ничего, кроме денег, никакого иного измерения человеческих отношений (если взять в скобки рудиментарную линию с эвакуацией Пажитного из СССР, к которой тоже много вопросов). В Air даже традиционные финальные титры, рассказывающие, как дальше сложилась судьба героев, сообщают только, сколько миллионов каждый из них заработал.
Это странное впечатление еще более усугубляется тем, что в остальном фильмы задействуют самые стандартные нарративные триггеры для манипуляций со зрительскими эмоциями. Например, пафосный смысложизненный монолог, кульминационная сцена с оттенком саспенса (успеет или не успеет сесть на самолет с подписанным контрактом? согласится или не согласится босс платить Джордану проценты с продаж?) или приятное расслабление в конце (фух, все получилось!). Я же, чувствуя, как меня принуждают сопереживать достаточно безликим представителям крупнейших международных компаний и ликовать вместе с ними, когда ручка, наконец, заскребет по заветной бумаге, испытываю недоумение, если не сказать раздражение.
Не знаю, может, всему виной несократимая дистанция между мной и большим бизнесом, может — разница культурных контекстов. В Тетрисе, например, все проблемы крутятся вокруг борьбы с пиратством, которая в России вообще не особо актуальна, а вот Хито Штейрль в статье Заметки о spamsoc делилась забавным наблюдением, что в американском политическом дискурсе пиратство часто увязывается с терроризмом. В общем, не знаю, меня даже перипетии Марфы Лапкиной в отношениях с молочным сепаратором вдохновляли больше, чем вот это вот всё.
❤28👍3🤷2😁1🤔1💔1
Через неделю, 26 мая в 19.00, читаю в Белом зале Дома кино ещё одну лекцию о документалистике. Билеты, as usual, на сайте пока не купить, но в кассе уже можно. В любом случае, буду ждать 🤍
Анонс такой:
В 1927 году советская режиссерка Эсфирь Шуб к 10-летней годовщине февральской революции решает не снять, а смонтировать из уже имеющихся дореволюционных хроник фильм «Падение династии Романовых». Пара точных интертитров — и кадры, некогда с почтением запечатлевшие повседневность императорской семьи, спешат обличить пороки досоветской России.
На следующей лекции мы обсудим практики работы с found footage — материалом, который документалисты не создают, но презентуют, трансформируя первоначальный контекст. На примере фильмов Шуб и Франка Капры, Раду Жуде и Сюзаны де Соузы Диаш, братьев Рафферти и Сергея Лозницы — поговорим об архивном эффекте, манипулятивных потенциях монтажа и ситуациях, где режиссеры пытаются, напротив, не выспрашивать у хроник и фотографий угодные им смыслы, а оставляют зрителю пространство для личного сообщения с документом.
Анонс такой:
В 1927 году советская режиссерка Эсфирь Шуб к 10-летней годовщине февральской революции решает не снять, а смонтировать из уже имеющихся дореволюционных хроник фильм «Падение династии Романовых». Пара точных интертитров — и кадры, некогда с почтением запечатлевшие повседневность императорской семьи, спешат обличить пороки досоветской России.
На следующей лекции мы обсудим практики работы с found footage — материалом, который документалисты не создают, но презентуют, трансформируя первоначальный контекст. На примере фильмов Шуб и Франка Капры, Раду Жуде и Сюзаны де Соузы Диаш, братьев Рафферти и Сергея Лозницы — поговорим об архивном эффекте, манипулятивных потенциях монтажа и ситуациях, где режиссеры пытаются, напротив, не выспрашивать у хроник и фотографий угодные им смыслы, а оставляют зрителю пространство для личного сообщения с документом.
❤22👍2
Выпустили третий текст про личную документалистику в Медиа Школы дизайна. На этот раз — про автофикциональные стратегии в документальном кино о самом себе.
Проблемы — расколотое первое лицо и соотношение факта и постановки.
Герои — Макэлви, Лаврецкий, Акерман, Джармен, Кавалье.
Почитать можно здесь.
Их я предлагаю характеризовать как портрет состояния. Речь идет о случаях, где основное для фильма событие невозможно представить в кадре — оно либо не было снято, либо его невозможно заснять. Задача режиссера — придумать постановочную конструкцию, способную заместить эту лакуну.
Проблемы — расколотое первое лицо и соотношение факта и постановки.
Герои — Макэлви, Лаврецкий, Акерман, Джармен, Кавалье.
Почитать можно здесь.
Их я предлагаю характеризовать как портрет состояния. Речь идет о случаях, где основное для фильма событие невозможно представить в кадре — оно либо не было снято, либо его невозможно заснять. Задача режиссера — придумать постановочную конструкцию, способную заместить эту лакуну.
design.hse.ru
«Рассказанные жизни, прожитые истории»: автофикшн в документалистике
Что значит писать или снимать от первого лица? И во, что превращается «я», превращаясь в букву на бумаге или субъективный взгляд камеры в кинематографе? В новом тексте рубрики, посвященной экспериментальной документалистике, Дарина Поликарпова дает множественные…
❤21👍3🤡1
Забрала авторский экземпляр последнего номера ИК (жесть, журнал пережил сталинизм, вторую мировую, развал СССР, но не выдержал 2022 года — редакторы говорят, что номер последний до лучших времён, что ж, остаётся надеяться, что они настанут, сил вам, товарищи 🤍).
Писала про проекты Нейтана Филдера — человека, который меня покорил в ушедшем году и смелым отношением к документалистике, и отвагой на такие жесты саморазоблачения, о которых нам, с нашими искренними и личными тг-каналами, можно только мечтать. Всем смотреть Репетицию и Нейтан спешит на выручку, а текст читать, так, опционально.
Писала про проекты Нейтана Филдера — человека, который меня покорил в ушедшем году и смелым отношением к документалистике, и отвагой на такие жесты саморазоблачения, о которых нам, с нашими искренними и личными тг-каналами, можно только мечтать. Всем смотреть Репетицию и Нейтан спешит на выручку, а текст читать, так, опционально.
❤56😭12👍3🤬1
Встретила в книге Ивана Белецкого (читаю Хоть глазочком заглянуть бы) очередной пример высказывания, подтверждающего старое наблюдение, — в общем восприятии есть штамп о гендерной специфике практик коллекционирования.
дедушкина библиотека, папина коллекция марок, комиксы, доставшиеся от старшего брата
Меня это задевает.
У меня самой так и не так. Где-то я всячески подчеркиваю, что большая коллекция видеокассет собрана папой (несмотря на то, что, по факту, мама в этом процессе тоже участвовала), но, допустим, библиотека, накопленная нашей семьей, — точно бабушкина, а не дедушкина, хотя платили они за нее явно вместе.
Поиски главного агента коллекционирования в каждом конкретном случае — абсолютно нормальная вещь, потому что через нее всегда просвечивает лицо и характер индивидуального собирателя и хранителя. Например, у нас с Маратом есть как бы общая библиотека, но я ее ощущаю своей (у Марата хватает его коллекций), потому что за ней ухаживаю — расставляю книги на полках, делаю каталоги, регулярнее становлюсь инициатором ее пополнения, да и в принципе чаще ей пользуюсь. Но вот интересно, как ее, скажем, воспримут наши перспективные дети, и сломается ли уже ко времени их взросления этот гендерный штамп?
Вполне понятно, как он сложился. Коллекция требует свободных денег, которые выделяются тем, кто их зарабатывает. Кроме того, требует свободного времени — а оно появляется у тех, кто может позволить себе четкое разделение между зонами работы и отдыха, у женщин, как известно, это все обычно сращивалось (пребывание дома — не досуг, а тоже работа). Кроме того, коллекции, о которых вспоминают не как о китче, а как о ценности — еще и имплицируют представление об интеллектуальном статусе коллекционера, валоризированном в культуре интересе не к магнитикам, а к кассетам, книгам, маркам, пластинкам. Тоже понятно, кому такой статус приписывался с большей готовностью.
Как будто сейчас, когда финансовый уровень выравнивается, а домашние заботы перераспределяются, все готовит следующее поколение к разговору о маминых и бабушкиных коллекциях. Другой вопрос, как быстро возникнут дискурсивные изменения, потому что у того же Белецкого в этом абзаце речь идет не о конкретных коллекциях, с которыми он знаком, а о коллекциях вообще — как по-прежнему мужском деле.
дедушкина библиотека, папина коллекция марок, комиксы, доставшиеся от старшего брата
Меня это задевает.
У меня самой так и не так. Где-то я всячески подчеркиваю, что большая коллекция видеокассет собрана папой (несмотря на то, что, по факту, мама в этом процессе тоже участвовала), но, допустим, библиотека, накопленная нашей семьей, — точно бабушкина, а не дедушкина, хотя платили они за нее явно вместе.
Поиски главного агента коллекционирования в каждом конкретном случае — абсолютно нормальная вещь, потому что через нее всегда просвечивает лицо и характер индивидуального собирателя и хранителя. Например, у нас с Маратом есть как бы общая библиотека, но я ее ощущаю своей (у Марата хватает его коллекций), потому что за ней ухаживаю — расставляю книги на полках, делаю каталоги, регулярнее становлюсь инициатором ее пополнения, да и в принципе чаще ей пользуюсь. Но вот интересно, как ее, скажем, воспримут наши перспективные дети, и сломается ли уже ко времени их взросления этот гендерный штамп?
Вполне понятно, как он сложился. Коллекция требует свободных денег, которые выделяются тем, кто их зарабатывает. Кроме того, требует свободного времени — а оно появляется у тех, кто может позволить себе четкое разделение между зонами работы и отдыха, у женщин, как известно, это все обычно сращивалось (пребывание дома — не досуг, а тоже работа). Кроме того, коллекции, о которых вспоминают не как о китче, а как о ценности — еще и имплицируют представление об интеллектуальном статусе коллекционера, валоризированном в культуре интересе не к магнитикам, а к кассетам, книгам, маркам, пластинкам. Тоже понятно, кому такой статус приписывался с большей готовностью.
Как будто сейчас, когда финансовый уровень выравнивается, а домашние заботы перераспределяются, все готовит следующее поколение к разговору о маминых и бабушкиных коллекциях. Другой вопрос, как быстро возникнут дискурсивные изменения, потому что у того же Белецкого в этом абзаце речь идет не о конкретных коллекциях, с которыми он знаком, а о коллекциях вообще — как по-прежнему мужском деле.
❤13👏12👍9
Сегодня (может быть, сказалась сентиментальность конца учебного года) почему-то задумалась, как иногда прорастают в нас некоторые преподаватели, общение с которыми к этому, кажется, совсем не располагало. Нет, понятно, бывают очевидные случаи — если вы долго над чем-то работаете, много времени проводите вместе, или сам преподаватель отличается, скажем, исключительной харизмой и дружелюбием. Но иногда его / её образ остаётся где-то на периферии памяти, и только со временем осознаешь, насколько на самом деле повлияли на тебя какие-то сказанные впроброс мелочи.
На истфаке я слушала несколько курсов у Татьяны Григорьевны Ивановой. Она фольклористка, так что никакой профессиональной близости у нас не было и быть не могло. По-человечески ТГ тоже, скорее, отталкивала: на первом курсе я, как и всё мои одногруппницы, её даже боялась.
Наше первое знакомство — курс библиографии, где Татьяна Григорьевна учила бывших школьниц обращаться с научной литературой, искать ее, оформлять научно-справочный аппарат. Она жёстко с нами общалась, сдавать зачёт надо было (без преувеличений!) восемь раз. Требовалось из недели в неделю приходить в Пушкинский дом, сидеть там в полутемном пыльном кабинете с высоким потолком, куда она заходила с чашкой чая и в сменных шлепанцах, выдавала каждой с полок по 10 разных текстовых источников и принуждала по памяти идеально оформить для них библиографические описания, не пользуясь при этом никакими образцами, не пропустив и не перепутав ни одной точки / запятой / тире / слэша.
По ходу того же курса Татьяна Григорьевна часто спрашивала, что мы читаем. Ответы её тогда не очень устраивали, и она как-то сказала, что, на её взгляд, человек, желающий заниматься наукой, должен почти каждый день выделять время на прочтение хотя бы двухсот страниц хорошей литературы.
Но на экзамене Татьяна Григорьевна удивила: эта суровая женщина, по манерам сильно напоминающая Киру Муратову в дурном настроении, внезапно потеплела, улыбнулась, отвлеклась от темы — когда мы вдруг пожаловались на жизнь — и посоветовала, если становится очень худо, сесть как-нибудь в поезд дальнего следования с бутылочкой вина и излить душу случайному встречному.
Мне тогда вообще не казалось, что хоть какой-то из перечисленных эпизодов способен на меня повлиять. Но с тех пор прошло 11 лет, и вот я ревностно отношусь к чёткому оформлению сносок и списка литературы, понимая, что это и тест на общую адекватность (критическая неспособность это сделать, как правило, рифмуется и с проблемами в других, более фундаментальных аспектах работы), и необходимый в академической среде коммуникационный код — вроде правил дорожного движения, и в принципе урок строгости, аккуратности и внимания к мелочам в своей профессиональной сфере. Еще, оценивая успешность своих читательских практик, я то и дело, не специально, но вспоминаю запавшее тогда в память число страниц. Еще — стараюсь соединять профессиональную жёсткость и человеческую мягкость и пытаюсь сделать так, чтобы и коллегам, и студентам было видно и то, и другое (Артем Евгеньевич когда-то сделал мне такой комплимент — именно в этих выражениях, а я сразу вспомнила ощущения от ТГ, и мне стало очень приятно).
В общем, Татьяна Григорьевна, вы это, конечно, не прочтете и не узнаете, но, кажется, оказались для меня важным человеком. Шлю вам сегодня беспричинное и безадресное спасибо!
На истфаке я слушала несколько курсов у Татьяны Григорьевны Ивановой. Она фольклористка, так что никакой профессиональной близости у нас не было и быть не могло. По-человечески ТГ тоже, скорее, отталкивала: на первом курсе я, как и всё мои одногруппницы, её даже боялась.
Наше первое знакомство — курс библиографии, где Татьяна Григорьевна учила бывших школьниц обращаться с научной литературой, искать ее, оформлять научно-справочный аппарат. Она жёстко с нами общалась, сдавать зачёт надо было (без преувеличений!) восемь раз. Требовалось из недели в неделю приходить в Пушкинский дом, сидеть там в полутемном пыльном кабинете с высоким потолком, куда она заходила с чашкой чая и в сменных шлепанцах, выдавала каждой с полок по 10 разных текстовых источников и принуждала по памяти идеально оформить для них библиографические описания, не пользуясь при этом никакими образцами, не пропустив и не перепутав ни одной точки / запятой / тире / слэша.
По ходу того же курса Татьяна Григорьевна часто спрашивала, что мы читаем. Ответы её тогда не очень устраивали, и она как-то сказала, что, на её взгляд, человек, желающий заниматься наукой, должен почти каждый день выделять время на прочтение хотя бы двухсот страниц хорошей литературы.
Но на экзамене Татьяна Григорьевна удивила: эта суровая женщина, по манерам сильно напоминающая Киру Муратову в дурном настроении, внезапно потеплела, улыбнулась, отвлеклась от темы — когда мы вдруг пожаловались на жизнь — и посоветовала, если становится очень худо, сесть как-нибудь в поезд дальнего следования с бутылочкой вина и излить душу случайному встречному.
Мне тогда вообще не казалось, что хоть какой-то из перечисленных эпизодов способен на меня повлиять. Но с тех пор прошло 11 лет, и вот я ревностно отношусь к чёткому оформлению сносок и списка литературы, понимая, что это и тест на общую адекватность (критическая неспособность это сделать, как правило, рифмуется и с проблемами в других, более фундаментальных аспектах работы), и необходимый в академической среде коммуникационный код — вроде правил дорожного движения, и в принципе урок строгости, аккуратности и внимания к мелочам в своей профессиональной сфере. Еще, оценивая успешность своих читательских практик, я то и дело, не специально, но вспоминаю запавшее тогда в память число страниц. Еще — стараюсь соединять профессиональную жёсткость и человеческую мягкость и пытаюсь сделать так, чтобы и коллегам, и студентам было видно и то, и другое (Артем Евгеньевич когда-то сделал мне такой комплимент — именно в этих выражениях, а я сразу вспомнила ощущения от ТГ, и мне стало очень приятно).
В общем, Татьяна Григорьевна, вы это, конечно, не прочтете и не узнаете, но, кажется, оказались для меня важным человеком. Шлю вам сегодня беспричинное и безадресное спасибо!
❤53❤🔥10👍3👏2
Общество российских пиратов сделало мне подарок к подступающему дню рождения — в сети появился новый фильм Келли Райхардт, который год назад презентовали в Каннах. Появление — набросок жизни молодых художников в американской арт-резиденции. Среди постояльцев — молчаливая, хмурая Лиззи, из различимых событий — поломка бойлера, да подранный рыжим котом голубь, которого теперь надо держать в коробке с грелкой.
Я очень люблю Райхардт за принципиальную неспешность ее фильмов — недостаточную, чтобы соотносить их с медленным кино и выраженно скучать, но вполне способную катализировать ощущение благостности и спокойствия от рутинности повседневной жизни. Эта рутинность у Райхардт часто добывается из сеттинга, заточенного будто бы под совершенно другой ритм — Дикий Запад, например, или, вот, сообщество молодых художников, где, наверное, у другого режиссера плелись бы интриги или, по крайней мере, нагнетались мучения творческих кризисов. Но в Появлении арт-резиденция — это, в первую очередь, место размеренно-педантичных ручных практик — работы на гончарном круге, ткачества, обжига, лепки, покраски. Вообще, это свойственно Райхардт — слой за слоем снимать с простых действий навязчивые коннотации и показывать зрителям, как люди день за днем возделывают небольшой участок территории, отведенный им жизнью. Неудивительно, что наравне с людьми в ее фильмах всегда присутствуют животные (кого только не было уже — собаки, лошади, коровы; тут, как и писала выше — котик и голубь). Это все, конечно, не может не вызывать ассоциаций с ранним кино, снятом в эстетике visualites — тем самым, что предлагало зрителям порадоваться простому наблюдению за тем, что немножко движется.
В современном контексте продолжающее эту традицию кино — будь то уже упомянутое медленное или, еще радикальнее, ландшафтное — к зрителю очень сурово, как сказала бы моя коллега Даша Бовшикова, воспитывает зрительский взгляд настолько строго, что пространства для радости почти не остается. На контрасте с ним Райхардт — это такой добрый родитель, помогающий подавить сопротивление суетливого сознания через выстраивание крайне комфортной среды — наблюдать за кошкой гораздо приятнее и проще, чем за пустой дорогой или белой стеной, тем более, если кошка чья-то, а этот кто-то — не только лепит скульптурки из глины, но еще и периодически вступает в перепалку с домовладелицей или беспокоится о судьбе брата.
Было очень хорошо смотреть Появление, лежа на разобранном диване рядом с собственной кошкой, с открытым окном и попивая холодненький шорли в относительно теплый летний день, зная, что никуда не надо торопиться, сегодня нет никаких дел. И завтра не будет. И еще послезавтра.
***
еще словила странное и забавное чувство
Мне показалось, что этот фильм Райхардт (не просто главная героиня, а фильм целиком) очень похож на одну мою подругу. Она тоже когда-то выхаживала раненую птицу, тоже, вероятно, сильно бы нервничала, если б пришлось долго жить в доме без горячей воды и не иметь возможности в любой момент принять душ. И еще она, как Появление, кажется мне размеренной, спокойной, педантичной и деликатной. Захотелось поиграть в игру На какой фильм вы похожи.
Я очень люблю Райхардт за принципиальную неспешность ее фильмов — недостаточную, чтобы соотносить их с медленным кино и выраженно скучать, но вполне способную катализировать ощущение благостности и спокойствия от рутинности повседневной жизни. Эта рутинность у Райхардт часто добывается из сеттинга, заточенного будто бы под совершенно другой ритм — Дикий Запад, например, или, вот, сообщество молодых художников, где, наверное, у другого режиссера плелись бы интриги или, по крайней мере, нагнетались мучения творческих кризисов. Но в Появлении арт-резиденция — это, в первую очередь, место размеренно-педантичных ручных практик — работы на гончарном круге, ткачества, обжига, лепки, покраски. Вообще, это свойственно Райхардт — слой за слоем снимать с простых действий навязчивые коннотации и показывать зрителям, как люди день за днем возделывают небольшой участок территории, отведенный им жизнью. Неудивительно, что наравне с людьми в ее фильмах всегда присутствуют животные (кого только не было уже — собаки, лошади, коровы; тут, как и писала выше — котик и голубь). Это все, конечно, не может не вызывать ассоциаций с ранним кино, снятом в эстетике visualites — тем самым, что предлагало зрителям порадоваться простому наблюдению за тем, что немножко движется.
В современном контексте продолжающее эту традицию кино — будь то уже упомянутое медленное или, еще радикальнее, ландшафтное — к зрителю очень сурово, как сказала бы моя коллега Даша Бовшикова, воспитывает зрительский взгляд настолько строго, что пространства для радости почти не остается. На контрасте с ним Райхардт — это такой добрый родитель, помогающий подавить сопротивление суетливого сознания через выстраивание крайне комфортной среды — наблюдать за кошкой гораздо приятнее и проще, чем за пустой дорогой или белой стеной, тем более, если кошка чья-то, а этот кто-то — не только лепит скульптурки из глины, но еще и периодически вступает в перепалку с домовладелицей или беспокоится о судьбе брата.
Было очень хорошо смотреть Появление, лежа на разобранном диване рядом с собственной кошкой, с открытым окном и попивая холодненький шорли в относительно теплый летний день, зная, что никуда не надо торопиться, сегодня нет никаких дел. И завтра не будет. И еще послезавтра.
***
еще словила странное и забавное чувство
Мне показалось, что этот фильм Райхардт (не просто главная героиня, а фильм целиком) очень похож на одну мою подругу. Она тоже когда-то выхаживала раненую птицу, тоже, вероятно, сильно бы нервничала, если б пришлось долго жить в доме без горячей воды и не иметь возможности в любой момент принять душ. И еще она, как Появление, кажется мне размеренной, спокойной, педантичной и деликатной. Захотелось поиграть в игру На какой фильм вы похожи.
❤27👍4👏1