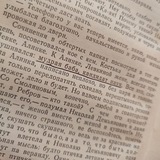В 2022-м я покидала Россию совсем ненадолго: под самый финал отправилась на несколько недель в Армению, чтобы встретить тот незабываемо странный Новый год в кругу близких людей, оказавшихся за границей с разными планами и на разный срок. По соседству от нас, кварталах, наверное, в трех-четырех, тот же ритуал проводила другая компания переехавших в Ереван россиян. В тот вечер к ним на застолье заглянул Василий Сонькин — москвич, киновед, временно растерянный релокант, решивший устроить небольшое турне в образе Деда Мороза и поддержать других разбросанных по разным странам друзей-знакомых. Из этой истории получился документальный фильм Сергея Карпова с очень нежным, абсолютно сандэнсовским названием Мы тебя везде ищем (вошел в онлайн-программу Артдокфеста).
2022 год из нынешнего кажется ушедшей натурой, временем, у которого был очень конкретный характер. Иногда, как присказку, проговариваешь так он все и идет, тот год, а потом видишь его в фильме и узнаешь безошибочно, как то, что явно не есть, а было. Тогда — выбитая из-под ног почва, перманентная встревоженность, компульсивность действий, импульсивность решений, стремление зависнуть хотя бы в транзите, лечь на сохранение и посмотреть, что будет. Сейчас уже не так, все больше про себя поняли, хотя бы в пространственном смысле: кто-то, как герой фильма, вернулся, кто-то твердо решил, что возвращаться не будет, — распаковал чемоданы, на все документы проставил апостиль и осел в новом месте.
Если выхватить из Мы тебя везде ищем отдельные кадры, можно и правда подумать, что это игровой фильм с Сандэнса: грустный мужчина с пергидрольными волосами и в костюме Деда Мороза сидит посреди обычного двора; он же — утром, на тесной кухне съемной квартиры, в домашней футболке и с чашкой горячего чая в руках щурится на солнечные лучи. Получается что-то о невеселых праздниках, кино, смешавшее карнавальный новогодний колорит с хмурой рутиной — вроде Петровых в гриппе или Рождество, опять, переделанного на постсоветский манер. Разглядываешь эти кадры, и не верится, что их можно случайно выхватить из потока эмигрантской повседневности. Да так, вероятно, и не было: хоть герой в течение фильма почти не смотрит в объектив, очевидно, что он имеет в виду присутствие камеры — и немного ей подыгрывает, слегка позирует, будто помогает режиссеру подобрать говорящие образы для трансляции настроения, которое на тот момент ещё только обретало язык.
Когда я проживаю что-то, с чем тяжело справляться, в качестве терапевтической практики часто представляю, что за мной в этом процессе кто-нибудь наблюдает. Будто какой-то неназванный и бессловесный свидетель регистрирует, как я переживаю выпавшие мне испытания, и обещает, что обязательно сохранит этот опыт, превратит его потом в какой-нибудь нарратив. Этот воображаемый взгляд помогает отчуждать слегка боль и горечь — как будто я сама для себя становлюсь персонажем, на которого можно смотреть со стороны и, например, отметить абсурдность приключившегося со мной положения, которое изнутри кажется совсем не смешным.
Вот и Мы тебя везде ищем превосходно воплощает такой многослойный диалог с самим собой, где Карпов изловчился снять сразу всех. И уязвимого, хрупкого Сонькина, разглядывающего жену и детей в маленьком окошке зума, и Сонькина-персонажа — Деда Мороза, скитающегося по странам, куда уехало больше всего его друзей-москвичей, и Сонькина-за-собой-наблюдающего — отмечающего, как нелепо ехать в светомузыкальном тбилисском такси под русский шансон, когда ты в таком раздрае, что жить не хочется.
Удваивая придуманный Сонькиным дружеский новогодний перформанс, работа Карпова тоже видится жестом поддержки и ободрения. Режиссер не хочет снимать героя украдкой, не силится поймать его на противоречии между сущностным и демонстративным. Тем поразительней, что фильм, не стремящийся быть ни антропологическим исследованием, ни политическим высказыванием, оказывается столь чутким в фиксации своего быстро ускользнувшего времени. Ведь вопреки всем ужасам 2022 года, именно тогда встретить простой жест поддержки было как-то особенно легко и естественно.
2022 год из нынешнего кажется ушедшей натурой, временем, у которого был очень конкретный характер. Иногда, как присказку, проговариваешь так он все и идет, тот год, а потом видишь его в фильме и узнаешь безошибочно, как то, что явно не есть, а было. Тогда — выбитая из-под ног почва, перманентная встревоженность, компульсивность действий, импульсивность решений, стремление зависнуть хотя бы в транзите, лечь на сохранение и посмотреть, что будет. Сейчас уже не так, все больше про себя поняли, хотя бы в пространственном смысле: кто-то, как герой фильма, вернулся, кто-то твердо решил, что возвращаться не будет, — распаковал чемоданы, на все документы проставил апостиль и осел в новом месте.
Если выхватить из Мы тебя везде ищем отдельные кадры, можно и правда подумать, что это игровой фильм с Сандэнса: грустный мужчина с пергидрольными волосами и в костюме Деда Мороза сидит посреди обычного двора; он же — утром, на тесной кухне съемной квартиры, в домашней футболке и с чашкой горячего чая в руках щурится на солнечные лучи. Получается что-то о невеселых праздниках, кино, смешавшее карнавальный новогодний колорит с хмурой рутиной — вроде Петровых в гриппе или Рождество, опять, переделанного на постсоветский манер. Разглядываешь эти кадры, и не верится, что их можно случайно выхватить из потока эмигрантской повседневности. Да так, вероятно, и не было: хоть герой в течение фильма почти не смотрит в объектив, очевидно, что он имеет в виду присутствие камеры — и немного ей подыгрывает, слегка позирует, будто помогает режиссеру подобрать говорящие образы для трансляции настроения, которое на тот момент ещё только обретало язык.
Когда я проживаю что-то, с чем тяжело справляться, в качестве терапевтической практики часто представляю, что за мной в этом процессе кто-нибудь наблюдает. Будто какой-то неназванный и бессловесный свидетель регистрирует, как я переживаю выпавшие мне испытания, и обещает, что обязательно сохранит этот опыт, превратит его потом в какой-нибудь нарратив. Этот воображаемый взгляд помогает отчуждать слегка боль и горечь — как будто я сама для себя становлюсь персонажем, на которого можно смотреть со стороны и, например, отметить абсурдность приключившегося со мной положения, которое изнутри кажется совсем не смешным.
Вот и Мы тебя везде ищем превосходно воплощает такой многослойный диалог с самим собой, где Карпов изловчился снять сразу всех. И уязвимого, хрупкого Сонькина, разглядывающего жену и детей в маленьком окошке зума, и Сонькина-персонажа — Деда Мороза, скитающегося по странам, куда уехало больше всего его друзей-москвичей, и Сонькина-за-собой-наблюдающего — отмечающего, как нелепо ехать в светомузыкальном тбилисском такси под русский шансон, когда ты в таком раздрае, что жить не хочется.
Удваивая придуманный Сонькиным дружеский новогодний перформанс, работа Карпова тоже видится жестом поддержки и ободрения. Режиссер не хочет снимать героя украдкой, не силится поймать его на противоречии между сущностным и демонстративным. Тем поразительней, что фильм, не стремящийся быть ни антропологическим исследованием, ни политическим высказыванием, оказывается столь чутким в фиксации своего быстро ускользнувшего времени. Ведь вопреки всем ужасам 2022 года, именно тогда встретить простой жест поддержки было как-то особенно легко и естественно.
🕊27❤23
Давненько не наблюдала, чтобы все сообщество исследователей кино так дружно читало и обсуждало одну и ту же книгу — речь, конечно, о Царапины и глитчи. О сохранении и демонстрации кино в начале XXI века, сборнике, составленном из заметок-постов куратора Австрийского музея кино Юрия Медена. Текст издал и виртуозно проиллюстрировал музей Garage, а перевела его прекрасная Ирина Марголина, сама — исследовательница кино и, в частности, его пленочной материальности (кстати, личными мыслями о получившемся издании Ира делится здесь).
Меден сразу оговаривается, что ставит перед собой не исследовательские, а, скорее, провокаторские задачи — так что текст его состоит из коротеньких анекдотов (слово его), поучительных случаев из собственной кураторской практики. Поскольку он явно пестует форму фрагмента, свои заметки о прочитанном оставлю в том же формате.
1/ Сфера интересов Медена частично пересекается с текстами Хито Штейрль — в частности, их обоих волнует изменчивость фильма, поток пленочных и цифровых копий, множащий неконтролируемые искажения. Даже примеры их схожи — у обоих есть сюжеты про скитания югославского кино, что, наверное, получилось случайно, но концептуально читается очень изящно, учитывая эфемерность этой страны, исчезнувшей, но до сих пор остающейся неустранимым горизонтом в бесконечной пересборке ее лоскутной территории.
Вот еще — красивая цитата, которую я гарантированно использую в одной из следующих статей или лекций о фильме как не-целостном объекте:
2/ Интересным лейтмотивом текста мне показалась пунктирная дискуссия Медена-идеалиста с Меденом-реалистом. Первому, например, может и хотелось бы верить в существование эталонной копии фильма, но второй вынужден признать, что саморазрушение вписано в саму онтологию кино (в духе, кстати, другого архивиста-теоретика Паоло Черчи Усая, написавшего небольшую книгу на схожую тему). Точно так же первый ищет аргументы в пользу сохранения традиционных практик просмотра и символического капитала лицензированных синематек, а второй рассказывает, как karagarga и другие торрент-трекеры (все это он афористично называет небесной синематекой) анархично воспитали несколько поколений киноманов по всему миру. В Косово и Тегеране в ответ на вопрос о происхождении демонстрируемых на какой-нибудь ретроспективе копий ему снисходительно улыбаются — как существу наивному, не только слегка избалованному привилегиями обеспеченных институций, но и серьезно ограничивающему верностью легальным просмотрам свои возможности в знакомстве с кино.
Да, есть такой парадокс: исследователи из стран (или городов), где не очень развиты киноинституции и пиратство не табуировано, порой выигрывают в насмотренности у респектабельных синефилов, привыкших зависеть от репертуара легальных стримингов и синематек. Признавать поражение Меден, конечно, не собирается, размышляя о том, что можно противопоставить домашним просмотрам, но и не делает пиратство фигурой умолчания, как это принято у некоторых ученых и преподавателей престижных университетов, для которых история кино ограничивается коллекцией лицензионных blu-ray — и чем богаче эта коллекция, тем сильней их ожесточение к пиратству, чтобы привилегия ни в коем случае не ставилась под сомнение.
3/ А что, собственно, противопоставить? У Медена есть идея, не им придуманная, но все еще недостаточно обиходная, чтоб вовсе о ней не упоминать. Это перформативность показа, к которой стоило бы двигаться арт-кинотеатрам и музеям кино. Он говорит в таком ключе и о сеансах пленочного кино:
Показалась симпатичной идея употреблять в отношении пленки слово перформанс — если мы принимаем во внимание, что пленка для кино является телом...
Меден сразу оговаривается, что ставит перед собой не исследовательские, а, скорее, провокаторские задачи — так что текст его состоит из коротеньких анекдотов (слово его), поучительных случаев из собственной кураторской практики. Поскольку он явно пестует форму фрагмента, свои заметки о прочитанном оставлю в том же формате.
1/ Сфера интересов Медена частично пересекается с текстами Хито Штейрль — в частности, их обоих волнует изменчивость фильма, поток пленочных и цифровых копий, множащий неконтролируемые искажения. Даже примеры их схожи — у обоих есть сюжеты про скитания югославского кино, что, наверное, получилось случайно, но концептуально читается очень изящно, учитывая эфемерность этой страны, исчезнувшей, но до сих пор остающейся неустранимым горизонтом в бесконечной пересборке ее лоскутной территории.
Вот еще — красивая цитата, которую я гарантированно использую в одной из следующих статей или лекций о фильме как не-целостном объекте:
В конце концов, история кино ... — это история царапин, разрывов, ожогов, нечетких изображений, задержек при смене бобин, пропущенных кадров, несовершенных кадров, абы каких скоростей проекции, не говоря уже о суматохе перед экраном.
2/ Интересным лейтмотивом текста мне показалась пунктирная дискуссия Медена-идеалиста с Меденом-реалистом. Первому, например, может и хотелось бы верить в существование эталонной копии фильма, но второй вынужден признать, что саморазрушение вписано в саму онтологию кино (в духе, кстати, другого архивиста-теоретика Паоло Черчи Усая, написавшего небольшую книгу на схожую тему). Точно так же первый ищет аргументы в пользу сохранения традиционных практик просмотра и символического капитала лицензированных синематек, а второй рассказывает, как karagarga и другие торрент-трекеры (все это он афористично называет небесной синематекой) анархично воспитали несколько поколений киноманов по всему миру. В Косово и Тегеране в ответ на вопрос о происхождении демонстрируемых на какой-нибудь ретроспективе копий ему снисходительно улыбаются — как существу наивному, не только слегка избалованному привилегиями обеспеченных институций, но и серьезно ограничивающему верностью легальным просмотрам свои возможности в знакомстве с кино.
Да, есть такой парадокс: исследователи из стран (или городов), где не очень развиты киноинституции и пиратство не табуировано, порой выигрывают в насмотренности у респектабельных синефилов, привыкших зависеть от репертуара легальных стримингов и синематек. Признавать поражение Меден, конечно, не собирается, размышляя о том, что можно противопоставить домашним просмотрам, но и не делает пиратство фигурой умолчания, как это принято у некоторых ученых и преподавателей престижных университетов, для которых история кино ограничивается коллекцией лицензионных blu-ray — и чем богаче эта коллекция, тем сильней их ожесточение к пиратству, чтобы привилегия ни в коем случае не ставилась под сомнение.
3/ А что, собственно, противопоставить? У Медена есть идея, не им придуманная, но все еще недостаточно обиходная, чтоб вовсе о ней не упоминать. Это перформативность показа, к которой стоило бы двигаться арт-кинотеатрам и музеям кино. Он говорит в таком ключе и о сеансах пленочного кино:
Такой перформанс должен быть сохранен и осмыслен на собственных условиях, отдельно от цифрового показа цифровых копий / сканов того же аналогового фильма.
Показалась симпатичной идея употреблять в отношении пленки слово перформанс — если мы принимаем во внимание, что пленка для кино является телом...
❤21❤🔥2👍2
...то и мыслить практики, направленные на ее (само)предъявление как перформативные очень уместно именно с точки зрения самого кино в модусе его автономного существования.
4/ Продолжаю думать над формулировкой полуприватные практики — так Меден характеризует способ просмотра, которым его студенты и вообще современные зрители заменяют походы в кинотеатры и синематеки. Собраться небольшой компанией (если вас двое — уже достаточно?) перед хорошим экраном домашнего телевизора или проектора — это, вообще-то, тоже что-то особенное, требующее подготовки и построенное на очень специфической ритуальности.
Но замкнулась я на другом. Меден такие просмотры описывает как выбор, к которому, мол, тяготеют современные зрители, противопоставляя его временам, когда люди выбирали (!) не приватность, а приобщение к стихийной коллективности зала. Но настойчивое желание самого Медена постоянно проверять, нет ли в подобных самоочевидных утверждениях незаметного статусного искажения, побуждает заподозрить его и тут.
Если задуматься, какие практики просмотра в ХХ веке выбирали те, кто мог выбирать, окажется, что они тоже часто носили схожий полуприватный характер. В частности, я сразу подумала о закрытых показах в Госкино и других советских киноинституциях — под них отводились совсем небольшие, камерные залы, публика подбиралась из своих, а фильм — на заказ из каталога. Понятно, что такие сеансы часто устраивались для лент, которые попросту не выходили в прокат, но точно ли те, кто уже тогда имел возможность устраивать полуприватные просмотры предпочли бы им поход в открытый кинотеатр? Я сомневаюсь. И, возможно, современный расцвет домашних полуприватных показов — это всего лишь демократизация той формы просмотра, которая и так всегда была самой желанной.
5/ Напоследок еще одна нежная цитата, про заговорщическое сообщество зрителей, связи которого становятся теснее в условиях растущего предложения по занимательному времяпрепровождения:
Так и хочется начать какой-нибудь показ с такой ноты — предложить посмотреть на соседа справа, потом слева, улыбнуться, поблагодарить друг друга за то, что пришли, и пожелать приятного просмотра.
Забавно, что последний раз я чувствовала подобное единение с залом как раз в стенах музея Garage, когда пришла на показ одного из фильмов Ван Бина. Особенно я восхитилась тем, что с нами осталась и кураторка этих показов, уже смотревшая трилогию по просмотровкам. Так прекрасная Алиса Насртдинова выразила любопытство, о котором пишет Меден, сразу с двух сторон — и как демонстраторка, и как зрительница.
Закончу, впрочем, абзацем немного ворчливым.
На прочтение Медена у меня ушло несколько воскресных часов — это было расслабленное чтение, оставившее меня в на редкость хорошем настроении; книга — приятная, стремительная — будто проскочила сквозь без задержек, царапнув пару-тройку раз. Такая легкость знакомства с ней очевидно связана с фрагментарным форматом, который большинство читателей отмечает как явное достоинство текста. В эпоху, как принято про нее считать, коллективной неусидчивости — он безусловно выигрывает аудиторию: концентрируешься всего на паре страниц и уже спешишь к другой теме.
Но какая-то часть меня продолжает хотеть от чтения немножко другого, и было даже обидно оттого, как спешно всякий раз сворачивался едва начавшийся разговор. Для меня книга — это все еще продолжительная беседа, возможность застрять надолго в тексте, претерпеть в процессе знакомства с ним какие-то трудности, даже совершать преодоление, которое затем, вполне вероятно, как раз и не даст забыть о прочитанном.
Но книгу в любом случае очень советую — вон, как много интересных тем для разговора она провоцирует)
4/ Продолжаю думать над формулировкой полуприватные практики — так Меден характеризует способ просмотра, которым его студенты и вообще современные зрители заменяют походы в кинотеатры и синематеки. Собраться небольшой компанией (если вас двое — уже достаточно?) перед хорошим экраном домашнего телевизора или проектора — это, вообще-то, тоже что-то особенное, требующее подготовки и построенное на очень специфической ритуальности.
Но замкнулась я на другом. Меден такие просмотры описывает как выбор, к которому, мол, тяготеют современные зрители, противопоставляя его временам, когда люди выбирали (!) не приватность, а приобщение к стихийной коллективности зала. Но настойчивое желание самого Медена постоянно проверять, нет ли в подобных самоочевидных утверждениях незаметного статусного искажения, побуждает заподозрить его и тут.
Если задуматься, какие практики просмотра в ХХ веке выбирали те, кто мог выбирать, окажется, что они тоже часто носили схожий полуприватный характер. В частности, я сразу подумала о закрытых показах в Госкино и других советских киноинституциях — под них отводились совсем небольшие, камерные залы, публика подбиралась из своих, а фильм — на заказ из каталога. Понятно, что такие сеансы часто устраивались для лент, которые попросту не выходили в прокат, но точно ли те, кто уже тогда имел возможность устраивать полуприватные просмотры предпочли бы им поход в открытый кинотеатр? Я сомневаюсь. И, возможно, современный расцвет домашних полуприватных показов — это всего лишь демократизация той формы просмотра, которая и так всегда была самой желанной.
5/ Напоследок еще одна нежная цитата, про заговорщическое сообщество зрителей, связи которого становятся теснее в условиях растущего предложения по занимательному времяпрепровождения:
Напротив, мы говорим о сохранении аудитории как настоящей, материальной группы людей, которые собрались, чтобы отпраздновать непростую идею настоящего, материального пространства... собрались, чтобы ответить на замысел публичной демонстрации фильмов публичной демонстрацией человеческого любопытства и взаимного уважения.
Так и хочется начать какой-нибудь показ с такой ноты — предложить посмотреть на соседа справа, потом слева, улыбнуться, поблагодарить друг друга за то, что пришли, и пожелать приятного просмотра.
Забавно, что последний раз я чувствовала подобное единение с залом как раз в стенах музея Garage, когда пришла на показ одного из фильмов Ван Бина. Особенно я восхитилась тем, что с нами осталась и кураторка этих показов, уже смотревшая трилогию по просмотровкам. Так прекрасная Алиса Насртдинова выразила любопытство, о котором пишет Меден, сразу с двух сторон — и как демонстраторка, и как зрительница.
Закончу, впрочем, абзацем немного ворчливым.
На прочтение Медена у меня ушло несколько воскресных часов — это было расслабленное чтение, оставившее меня в на редкость хорошем настроении; книга — приятная, стремительная — будто проскочила сквозь без задержек, царапнув пару-тройку раз. Такая легкость знакомства с ней очевидно связана с фрагментарным форматом, который большинство читателей отмечает как явное достоинство текста. В эпоху, как принято про нее считать, коллективной неусидчивости — он безусловно выигрывает аудиторию: концентрируешься всего на паре страниц и уже спешишь к другой теме.
Но какая-то часть меня продолжает хотеть от чтения немножко другого, и было даже обидно оттого, как спешно всякий раз сворачивался едва начавшийся разговор. Для меня книга — это все еще продолжительная беседа, возможность застрять надолго в тексте, претерпеть в процессе знакомства с ним какие-то трудности, даже совершать преодоление, которое затем, вполне вероятно, как раз и не даст забыть о прочитанном.
Но книгу в любом случае очень советую — вон, как много интересных тем для разговора она провоцирует)
❤34❤🔥4👍4👀2
Пару недель назад благодаря Аниным комплиментам у канала расширилась аудитория, а я, как назло, как раз последние несколько месяцев пребывала в одном из самых молчаливых своих состояний: сначала было просто тягостно и тоскливо, потом навалились привычные для мая университетские дела. Да еще параллельно готовилась к грандиозному приключению, о котором, надеюсь, я начну рассказывать уже совсем скоро — буквально в конце недели.
А пока прерву тишину другим.
На днях дочитала последний том Кино и контекста, где встретила упоминание Нежного возраста Сергея Соловьева. Комментарий стремился быть сдержанным, чтоб остаться безоценочным, чем напомнил о давно замеченной тенденции: почти все люди, которым кино Соловьева нравится, предпочитают не упоминать лишний раз фильмы, снятые им в XXI веке, а то и вовсе делать вид, что их не существует. Яркий пример такой стратегии — книга о режиссере, написанная Юрием Сапрыкиным для серии Лица, замечательная во всем, кроме этого.
При таком подходе Нежный возраст, вышедший ровно в 2000 году, всегда оказывается пограничным явлением — его упоминают как своеобразный постскриптум к начатой Ассой трилогии, но как-то бегло, настороженно подмечая следы стилистического разложения, которое острее проявится позже. Наслушавшись в свое время подобных отзывов, я долго откладывала просмотр НВ и добралась до него только в начале этого года. С тех пор все хотела как-нибудь написать здесь, как сильно он мне понравился.
Соловьев создавал этот фильм вместе с сыном Митей, который сыграл в нем, по сути, себя самого — парня, которому выпало взрослеть параллельно стране, в перестройку и девяностые проживающей свой собственный нежный возраст. Ее предсказуемо корежит, вихляет между равно аффектированными героями Гафта — интеллигента, триумфально ожидающего возвращения Солженицына, и Гармаша — афганского ветерана, крошащего лбом кирпич в порыве отчаянной фрустрации от поражения в холодной войне. Но Митя — а с ним и другие взрослеющие — живут как-то мимо ажитации взрослых, не из глупости и равнодушия, а потому что интуитивно сопротивляются перспективе стать частью не ими придуманных нарративов. Так что пробуют всего понемногу: позднесоветскую сексуальную революцию, криминальный бизнес, Чеченскую войну, эмиграцию, похороны одноклассников, кататься на ретро автомобилях и создавать постмодернистские дизайны новых квартир.
Девяностые — и правда самое органичное время для всегда эклектичной эстетики Соловьева, везде, кроме НВ, кажущейся немножко нарочитой, искусственной. Ну, правда: в Сто дней после детства трепетное рассматривание ренессансных полотен в обстановке казенного пионерлагеря 1970-х кажется очаровательной выдумкой, а вот стилизациям под любительское порно, разыгранным в интерьерах интеллигентской сталинки, здесь веришь спокойно.
Нежный возраст как-то поразительно хорошо смотрится сейчас: не работает только на ностальгической тяге, а ощущается очень современно — с ломко-депрессивным главным героем, склонным к селф-харму, с классической manic pixie dream girl, произносящей русские слова с иностранными интонациями (точь-в-точь как некоторые мои студентки), с эмодзи вместо слов, с чудаковатой стилистикой в духе Уэса Андерсона, Чарли Кауфмана, Миранды Джулай, и даже — с посттравматическим синдромом, со щемящими было и стало, здесь и там.
Еще НВ снят с интонацией, которую я, пожалуй, до сих пор больше всего люблю и ценю в российском кино: когда режиссер одновременно стремится держаться реальности, ни в коем случае от нее не сбегая, но при этом не показывает ее унылой, монотонной и серой, а ищет способ как-то все, наоборот, насытить, оформить, заострить. В российском кино ХХI века такое можно повстречать в отдельных фильмах Серебренникова (японский ресторан в Изображая жертву как будто из НВ!), у раннего Хлебникова, ярче всего — у Лобана, а что-то близкое есть у Местецкого, еще у Мульменко во Фрау. Все подобные режиссеры, мне кажется, обязаны Соловьеву этой частью своего стиля. Ну, или Муратовой, которая с ним — как мне недавно подумалось — образует забавную контрастную пару: как chaotic good и chaotic evil.
А пока прерву тишину другим.
На днях дочитала последний том Кино и контекста, где встретила упоминание Нежного возраста Сергея Соловьева. Комментарий стремился быть сдержанным, чтоб остаться безоценочным, чем напомнил о давно замеченной тенденции: почти все люди, которым кино Соловьева нравится, предпочитают не упоминать лишний раз фильмы, снятые им в XXI веке, а то и вовсе делать вид, что их не существует. Яркий пример такой стратегии — книга о режиссере, написанная Юрием Сапрыкиным для серии Лица, замечательная во всем, кроме этого.
При таком подходе Нежный возраст, вышедший ровно в 2000 году, всегда оказывается пограничным явлением — его упоминают как своеобразный постскриптум к начатой Ассой трилогии, но как-то бегло, настороженно подмечая следы стилистического разложения, которое острее проявится позже. Наслушавшись в свое время подобных отзывов, я долго откладывала просмотр НВ и добралась до него только в начале этого года. С тех пор все хотела как-нибудь написать здесь, как сильно он мне понравился.
Соловьев создавал этот фильм вместе с сыном Митей, который сыграл в нем, по сути, себя самого — парня, которому выпало взрослеть параллельно стране, в перестройку и девяностые проживающей свой собственный нежный возраст. Ее предсказуемо корежит, вихляет между равно аффектированными героями Гафта — интеллигента, триумфально ожидающего возвращения Солженицына, и Гармаша — афганского ветерана, крошащего лбом кирпич в порыве отчаянной фрустрации от поражения в холодной войне. Но Митя — а с ним и другие взрослеющие — живут как-то мимо ажитации взрослых, не из глупости и равнодушия, а потому что интуитивно сопротивляются перспективе стать частью не ими придуманных нарративов. Так что пробуют всего понемногу: позднесоветскую сексуальную революцию, криминальный бизнес, Чеченскую войну, эмиграцию, похороны одноклассников, кататься на ретро автомобилях и создавать постмодернистские дизайны новых квартир.
Девяностые — и правда самое органичное время для всегда эклектичной эстетики Соловьева, везде, кроме НВ, кажущейся немножко нарочитой, искусственной. Ну, правда: в Сто дней после детства трепетное рассматривание ренессансных полотен в обстановке казенного пионерлагеря 1970-х кажется очаровательной выдумкой, а вот стилизациям под любительское порно, разыгранным в интерьерах интеллигентской сталинки, здесь веришь спокойно.
Нежный возраст как-то поразительно хорошо смотрится сейчас: не работает только на ностальгической тяге, а ощущается очень современно — с ломко-депрессивным главным героем, склонным к селф-харму, с классической manic pixie dream girl, произносящей русские слова с иностранными интонациями (точь-в-точь как некоторые мои студентки), с эмодзи вместо слов, с чудаковатой стилистикой в духе Уэса Андерсона, Чарли Кауфмана, Миранды Джулай, и даже — с посттравматическим синдромом, со щемящими было и стало, здесь и там.
Еще НВ снят с интонацией, которую я, пожалуй, до сих пор больше всего люблю и ценю в российском кино: когда режиссер одновременно стремится держаться реальности, ни в коем случае от нее не сбегая, но при этом не показывает ее унылой, монотонной и серой, а ищет способ как-то все, наоборот, насытить, оформить, заострить. В российском кино ХХI века такое можно повстречать в отдельных фильмах Серебренникова (японский ресторан в Изображая жертву как будто из НВ!), у раннего Хлебникова, ярче всего — у Лобана, а что-то близкое есть у Местецкого, еще у Мульменко во Фрау. Все подобные режиссеры, мне кажется, обязаны Соловьеву этой частью своего стиля. Ну, или Муратовой, которая с ним — как мне недавно подумалось — образует забавную контрастную пару: как chaotic good и chaotic evil.
❤30❤🔥9🙏2🔥1🤔1