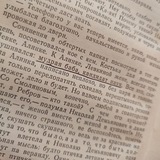...то и мыслить практики, направленные на ее (само)предъявление как перформативные очень уместно именно с точки зрения самого кино в модусе его автономного существования.
4/ Продолжаю думать над формулировкой полуприватные практики — так Меден характеризует способ просмотра, которым его студенты и вообще современные зрители заменяют походы в кинотеатры и синематеки. Собраться небольшой компанией (если вас двое — уже достаточно?) перед хорошим экраном домашнего телевизора или проектора — это, вообще-то, тоже что-то особенное, требующее подготовки и построенное на очень специфической ритуальности.
Но замкнулась я на другом. Меден такие просмотры описывает как выбор, к которому, мол, тяготеют современные зрители, противопоставляя его временам, когда люди выбирали (!) не приватность, а приобщение к стихийной коллективности зала. Но настойчивое желание самого Медена постоянно проверять, нет ли в подобных самоочевидных утверждениях незаметного статусного искажения, побуждает заподозрить его и тут.
Если задуматься, какие практики просмотра в ХХ веке выбирали те, кто мог выбирать, окажется, что они тоже часто носили схожий полуприватный характер. В частности, я сразу подумала о закрытых показах в Госкино и других советских киноинституциях — под них отводились совсем небольшие, камерные залы, публика подбиралась из своих, а фильм — на заказ из каталога. Понятно, что такие сеансы часто устраивались для лент, которые попросту не выходили в прокат, но точно ли те, кто уже тогда имел возможность устраивать полуприватные просмотры предпочли бы им поход в открытый кинотеатр? Я сомневаюсь. И, возможно, современный расцвет домашних полуприватных показов — это всего лишь демократизация той формы просмотра, которая и так всегда была самой желанной.
5/ Напоследок еще одна нежная цитата, про заговорщическое сообщество зрителей, связи которого становятся теснее в условиях растущего предложения по занимательному времяпрепровождения:
Так и хочется начать какой-нибудь показ с такой ноты — предложить посмотреть на соседа справа, потом слева, улыбнуться, поблагодарить друг друга за то, что пришли, и пожелать приятного просмотра.
Забавно, что последний раз я чувствовала подобное единение с залом как раз в стенах музея Garage, когда пришла на показ одного из фильмов Ван Бина. Особенно я восхитилась тем, что с нами осталась и кураторка этих показов, уже смотревшая трилогию по просмотровкам. Так прекрасная Алиса Насртдинова выразила любопытство, о котором пишет Меден, сразу с двух сторон — и как демонстраторка, и как зрительница.
Закончу, впрочем, абзацем немного ворчливым.
На прочтение Медена у меня ушло несколько воскресных часов — это было расслабленное чтение, оставившее меня в на редкость хорошем настроении; книга — приятная, стремительная — будто проскочила сквозь без задержек, царапнув пару-тройку раз. Такая легкость знакомства с ней очевидно связана с фрагментарным форматом, который большинство читателей отмечает как явное достоинство текста. В эпоху, как принято про нее считать, коллективной неусидчивости — он безусловно выигрывает аудиторию: концентрируешься всего на паре страниц и уже спешишь к другой теме.
Но какая-то часть меня продолжает хотеть от чтения немножко другого, и было даже обидно оттого, как спешно всякий раз сворачивался едва начавшийся разговор. Для меня книга — это все еще продолжительная беседа, возможность застрять надолго в тексте, претерпеть в процессе знакомства с ним какие-то трудности, даже совершать преодоление, которое затем, вполне вероятно, как раз и не даст забыть о прочитанном.
Но книгу в любом случае очень советую — вон, как много интересных тем для разговора она провоцирует)
4/ Продолжаю думать над формулировкой полуприватные практики — так Меден характеризует способ просмотра, которым его студенты и вообще современные зрители заменяют походы в кинотеатры и синематеки. Собраться небольшой компанией (если вас двое — уже достаточно?) перед хорошим экраном домашнего телевизора или проектора — это, вообще-то, тоже что-то особенное, требующее подготовки и построенное на очень специфической ритуальности.
Но замкнулась я на другом. Меден такие просмотры описывает как выбор, к которому, мол, тяготеют современные зрители, противопоставляя его временам, когда люди выбирали (!) не приватность, а приобщение к стихийной коллективности зала. Но настойчивое желание самого Медена постоянно проверять, нет ли в подобных самоочевидных утверждениях незаметного статусного искажения, побуждает заподозрить его и тут.
Если задуматься, какие практики просмотра в ХХ веке выбирали те, кто мог выбирать, окажется, что они тоже часто носили схожий полуприватный характер. В частности, я сразу подумала о закрытых показах в Госкино и других советских киноинституциях — под них отводились совсем небольшие, камерные залы, публика подбиралась из своих, а фильм — на заказ из каталога. Понятно, что такие сеансы часто устраивались для лент, которые попросту не выходили в прокат, но точно ли те, кто уже тогда имел возможность устраивать полуприватные просмотры предпочли бы им поход в открытый кинотеатр? Я сомневаюсь. И, возможно, современный расцвет домашних полуприватных показов — это всего лишь демократизация той формы просмотра, которая и так всегда была самой желанной.
5/ Напоследок еще одна нежная цитата, про заговорщическое сообщество зрителей, связи которого становятся теснее в условиях растущего предложения по занимательному времяпрепровождения:
Напротив, мы говорим о сохранении аудитории как настоящей, материальной группы людей, которые собрались, чтобы отпраздновать непростую идею настоящего, материального пространства... собрались, чтобы ответить на замысел публичной демонстрации фильмов публичной демонстрацией человеческого любопытства и взаимного уважения.
Так и хочется начать какой-нибудь показ с такой ноты — предложить посмотреть на соседа справа, потом слева, улыбнуться, поблагодарить друг друга за то, что пришли, и пожелать приятного просмотра.
Забавно, что последний раз я чувствовала подобное единение с залом как раз в стенах музея Garage, когда пришла на показ одного из фильмов Ван Бина. Особенно я восхитилась тем, что с нами осталась и кураторка этих показов, уже смотревшая трилогию по просмотровкам. Так прекрасная Алиса Насртдинова выразила любопытство, о котором пишет Меден, сразу с двух сторон — и как демонстраторка, и как зрительница.
Закончу, впрочем, абзацем немного ворчливым.
На прочтение Медена у меня ушло несколько воскресных часов — это было расслабленное чтение, оставившее меня в на редкость хорошем настроении; книга — приятная, стремительная — будто проскочила сквозь без задержек, царапнув пару-тройку раз. Такая легкость знакомства с ней очевидно связана с фрагментарным форматом, который большинство читателей отмечает как явное достоинство текста. В эпоху, как принято про нее считать, коллективной неусидчивости — он безусловно выигрывает аудиторию: концентрируешься всего на паре страниц и уже спешишь к другой теме.
Но какая-то часть меня продолжает хотеть от чтения немножко другого, и было даже обидно оттого, как спешно всякий раз сворачивался едва начавшийся разговор. Для меня книга — это все еще продолжительная беседа, возможность застрять надолго в тексте, претерпеть в процессе знакомства с ним какие-то трудности, даже совершать преодоление, которое затем, вполне вероятно, как раз и не даст забыть о прочитанном.
Но книгу в любом случае очень советую — вон, как много интересных тем для разговора она провоцирует)
❤34❤🔥4👍4👀2
Пару недель назад благодаря Аниным комплиментам у канала расширилась аудитория, а я, как назло, как раз последние несколько месяцев пребывала в одном из самых молчаливых своих состояний: сначала было просто тягостно и тоскливо, потом навалились привычные для мая университетские дела. Да еще параллельно готовилась к грандиозному приключению, о котором, надеюсь, я начну рассказывать уже совсем скоро — буквально в конце недели.
А пока прерву тишину другим.
На днях дочитала последний том Кино и контекста, где встретила упоминание Нежного возраста Сергея Соловьева. Комментарий стремился быть сдержанным, чтоб остаться безоценочным, чем напомнил о давно замеченной тенденции: почти все люди, которым кино Соловьева нравится, предпочитают не упоминать лишний раз фильмы, снятые им в XXI веке, а то и вовсе делать вид, что их не существует. Яркий пример такой стратегии — книга о режиссере, написанная Юрием Сапрыкиным для серии Лица, замечательная во всем, кроме этого.
При таком подходе Нежный возраст, вышедший ровно в 2000 году, всегда оказывается пограничным явлением — его упоминают как своеобразный постскриптум к начатой Ассой трилогии, но как-то бегло, настороженно подмечая следы стилистического разложения, которое острее проявится позже. Наслушавшись в свое время подобных отзывов, я долго откладывала просмотр НВ и добралась до него только в начале этого года. С тех пор все хотела как-нибудь написать здесь, как сильно он мне понравился.
Соловьев создавал этот фильм вместе с сыном Митей, который сыграл в нем, по сути, себя самого — парня, которому выпало взрослеть параллельно стране, в перестройку и девяностые проживающей свой собственный нежный возраст. Ее предсказуемо корежит, вихляет между равно аффектированными героями Гафта — интеллигента, триумфально ожидающего возвращения Солженицына, и Гармаша — афганского ветерана, крошащего лбом кирпич в порыве отчаянной фрустрации от поражения в холодной войне. Но Митя — а с ним и другие взрослеющие — живут как-то мимо ажитации взрослых, не из глупости и равнодушия, а потому что интуитивно сопротивляются перспективе стать частью не ими придуманных нарративов. Так что пробуют всего понемногу: позднесоветскую сексуальную революцию, криминальный бизнес, Чеченскую войну, эмиграцию, похороны одноклассников, кататься на ретро автомобилях и создавать постмодернистские дизайны новых квартир.
Девяностые — и правда самое органичное время для всегда эклектичной эстетики Соловьева, везде, кроме НВ, кажущейся немножко нарочитой, искусственной. Ну, правда: в Сто дней после детства трепетное рассматривание ренессансных полотен в обстановке казенного пионерлагеря 1970-х кажется очаровательной выдумкой, а вот стилизациям под любительское порно, разыгранным в интерьерах интеллигентской сталинки, здесь веришь спокойно.
Нежный возраст как-то поразительно хорошо смотрится сейчас: не работает только на ностальгической тяге, а ощущается очень современно — с ломко-депрессивным главным героем, склонным к селф-харму, с классической manic pixie dream girl, произносящей русские слова с иностранными интонациями (точь-в-точь как некоторые мои студентки), с эмодзи вместо слов, с чудаковатой стилистикой в духе Уэса Андерсона, Чарли Кауфмана, Миранды Джулай, и даже — с посттравматическим синдромом, со щемящими было и стало, здесь и там.
Еще НВ снят с интонацией, которую я, пожалуй, до сих пор больше всего люблю и ценю в российском кино: когда режиссер одновременно стремится держаться реальности, ни в коем случае от нее не сбегая, но при этом не показывает ее унылой, монотонной и серой, а ищет способ как-то все, наоборот, насытить, оформить, заострить. В российском кино ХХI века такое можно повстречать в отдельных фильмах Серебренникова (японский ресторан в Изображая жертву как будто из НВ!), у раннего Хлебникова, ярче всего — у Лобана, а что-то близкое есть у Местецкого, еще у Мульменко во Фрау. Все подобные режиссеры, мне кажется, обязаны Соловьеву этой частью своего стиля. Ну, или Муратовой, которая с ним — как мне недавно подумалось — образует забавную контрастную пару: как chaotic good и chaotic evil.
А пока прерву тишину другим.
На днях дочитала последний том Кино и контекста, где встретила упоминание Нежного возраста Сергея Соловьева. Комментарий стремился быть сдержанным, чтоб остаться безоценочным, чем напомнил о давно замеченной тенденции: почти все люди, которым кино Соловьева нравится, предпочитают не упоминать лишний раз фильмы, снятые им в XXI веке, а то и вовсе делать вид, что их не существует. Яркий пример такой стратегии — книга о режиссере, написанная Юрием Сапрыкиным для серии Лица, замечательная во всем, кроме этого.
При таком подходе Нежный возраст, вышедший ровно в 2000 году, всегда оказывается пограничным явлением — его упоминают как своеобразный постскриптум к начатой Ассой трилогии, но как-то бегло, настороженно подмечая следы стилистического разложения, которое острее проявится позже. Наслушавшись в свое время подобных отзывов, я долго откладывала просмотр НВ и добралась до него только в начале этого года. С тех пор все хотела как-нибудь написать здесь, как сильно он мне понравился.
Соловьев создавал этот фильм вместе с сыном Митей, который сыграл в нем, по сути, себя самого — парня, которому выпало взрослеть параллельно стране, в перестройку и девяностые проживающей свой собственный нежный возраст. Ее предсказуемо корежит, вихляет между равно аффектированными героями Гафта — интеллигента, триумфально ожидающего возвращения Солженицына, и Гармаша — афганского ветерана, крошащего лбом кирпич в порыве отчаянной фрустрации от поражения в холодной войне. Но Митя — а с ним и другие взрослеющие — живут как-то мимо ажитации взрослых, не из глупости и равнодушия, а потому что интуитивно сопротивляются перспективе стать частью не ими придуманных нарративов. Так что пробуют всего понемногу: позднесоветскую сексуальную революцию, криминальный бизнес, Чеченскую войну, эмиграцию, похороны одноклассников, кататься на ретро автомобилях и создавать постмодернистские дизайны новых квартир.
Девяностые — и правда самое органичное время для всегда эклектичной эстетики Соловьева, везде, кроме НВ, кажущейся немножко нарочитой, искусственной. Ну, правда: в Сто дней после детства трепетное рассматривание ренессансных полотен в обстановке казенного пионерлагеря 1970-х кажется очаровательной выдумкой, а вот стилизациям под любительское порно, разыгранным в интерьерах интеллигентской сталинки, здесь веришь спокойно.
Нежный возраст как-то поразительно хорошо смотрится сейчас: не работает только на ностальгической тяге, а ощущается очень современно — с ломко-депрессивным главным героем, склонным к селф-харму, с классической manic pixie dream girl, произносящей русские слова с иностранными интонациями (точь-в-точь как некоторые мои студентки), с эмодзи вместо слов, с чудаковатой стилистикой в духе Уэса Андерсона, Чарли Кауфмана, Миранды Джулай, и даже — с посттравматическим синдромом, со щемящими было и стало, здесь и там.
Еще НВ снят с интонацией, которую я, пожалуй, до сих пор больше всего люблю и ценю в российском кино: когда режиссер одновременно стремится держаться реальности, ни в коем случае от нее не сбегая, но при этом не показывает ее унылой, монотонной и серой, а ищет способ как-то все, наоборот, насытить, оформить, заострить. В российском кино ХХI века такое можно повстречать в отдельных фильмах Серебренникова (японский ресторан в Изображая жертву как будто из НВ!), у раннего Хлебникова, ярче всего — у Лобана, а что-то близкое есть у Местецкого, еще у Мульменко во Фрау. Все подобные режиссеры, мне кажется, обязаны Соловьеву этой частью своего стиля. Ну, или Муратовой, которая с ним — как мне недавно подумалось — образует забавную контрастную пару: как chaotic good и chaotic evil.
❤30❤🔥9🙏2🔥1🤔1
давайте
срочно смотрим и пересматриваем нежный возраст
— делаем фильм культовым, восстанавливаем справедливость
срочно смотрим и пересматриваем нежный возраст
— делаем фильм культовым, восстанавливаем справедливость
❤52🔥19🥱2🤷♂1
Согласно плану, я в ближайшее время должна оказаться довольно далеко от Петербурга, поэтому сама никуда не смогу сходить, но вам советую несколько мероприятий, которые посетила бы обязательно:
✍🏻 7 июня Фестиваль невидимого кино устраивает выездной показ за городом -- в Колтушах.
Он пройдет на базе научного городка Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.
Авторы фильмов из программы «Исследование исследования» посредством кино анализируют и ставят под вопрос самые разные феномены, программа «Визуальный мусор» сосредоточена на проблеме переизбытка информации в нашей повседневной жизни, а программа «Наблюдение кино» посвящена тому, как устроен кинематографический аппарат и наше восприятие. Также вас ждет спецпрограмма машинимы, собранная исследователем Константином Ремизовым.
Всё подробности здесь.
✍🏻 В Доме кино на следующей неделе, с 13 по 16 июня, будет большая программа показов, собранная московским объединением ЦИКЛ, за которым я очень слежу.
ЦИКЛ — это многопрофильное объединение кинематографистов в Москве, состоящее из кинотеатра, архива любительского кино и плёночной лаборатории. В честь своего открытия команда проекта подготовила фестиваль (вот его, кстати, могут уже завтра посетить те, кто обитает в Москве!), отражающий основные направления деятельности объединения.
В Петербурге пройдет его цифровое эхо: за четыре дня можно будет посмотреть авторские подборки западного и восточного экспериментального кино, любительских фильмов и фаунд футаджа. Кажется, восторг!
Все подробности о показах и ссылки на покупку билетов можно найти вот здесь.
✍🏻 7 июня Фестиваль невидимого кино устраивает выездной показ за городом -- в Колтушах.
Он пройдет на базе научного городка Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.
Авторы фильмов из программы «Исследование исследования» посредством кино анализируют и ставят под вопрос самые разные феномены, программа «Визуальный мусор» сосредоточена на проблеме переизбытка информации в нашей повседневной жизни, а программа «Наблюдение кино» посвящена тому, как устроен кинематографический аппарат и наше восприятие. Также вас ждет спецпрограмма машинимы, собранная исследователем Константином Ремизовым.
Всё подробности здесь.
✍🏻 В Доме кино на следующей неделе, с 13 по 16 июня, будет большая программа показов, собранная московским объединением ЦИКЛ, за которым я очень слежу.
ЦИКЛ — это многопрофильное объединение кинематографистов в Москве, состоящее из кинотеатра, архива любительского кино и плёночной лаборатории. В честь своего открытия команда проекта подготовила фестиваль (вот его, кстати, могут уже завтра посетить те, кто обитает в Москве!), отражающий основные направления деятельности объединения.
В Петербурге пройдет его цифровое эхо: за четыре дня можно будет посмотреть авторские подборки западного и восточного экспериментального кино, любительских фильмов и фаунд футаджа. Кажется, восторг!
Все подробности о показах и ссылки на покупку билетов можно найти вот здесь.
❤28🫡3👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
HOLA! 🇲🇽
В ближайший месяц знайте меня как преподавательницу теории кино университета UPAEP в городе Пуэбла, Мексика (и, конечно, как энтузиастку тако и Corona Extra).
Кстати: никогда ещё название канала не подходило его содержанию так хорошо.
В ближайший месяц знайте меня как преподавательницу теории кино университета UPAEP в городе Пуэбла, Мексика (и, конечно, как энтузиастку тако и Corona Extra).
Кстати: никогда ещё название канала не подходило его содержанию так хорошо.
❤134🔥33😍25❤🔥17👀4👍1👏1🐳1😘1
Когда-то должна появиться первая заметка о Мексике. Или обо мне — в Мексике.
Здесь по-настоящему яркое солнце: об этом несложно догадаться, посмотрев на карту (страна расположена близко к экватору и т.д.), но увидеть это, почувствовать — совсем другое дело. В первый день оно пометило ожогами мою белую, нежную, обычно бегущую такой грубости кожу. Но и очаровало солнце тоже с первого раза. Мне кажется, я не видела мир таким ярким: никогда — в самом прямом смысле слова и, признаюсь, давно — в переносном. Я снова и снова повторяю это мексиканским коллегам в ответ на вопросы о впечатлениях, но то, что действительно со мной происходит, не улавливается нечутким радаром светской беседы.
В первый день я не могла насмотреться на пальмы — и, кажется, не понимала, что никогда раньше не видела их, пока наконец не увидела в первый раз. Но и прочая флора, вроде кипарисов и кактусов разных видов, здесь удивительна. В Европе деревья, кусты и травы часто ломкие, хрупкие; даже крупные деревья — носители изящных форм. Здесь же зелень кажется распухшей от внутренних соков, по-медвежьи неловкой — с маслянистыми стволами, с тяжелыми, налитыми солнцем листьями, похожими на чьи-то большие лапы.
В духе магического реализма (простите за это клише) я живу здесь в рассогласованном времени. Мои сутки идут дольше положенного — в том числе, так я чувствовала свой день рождения, который — от первого до последнего поздравления — длился тридцать три часа вместо двадцати четырех. Из них для сна мне здесь отчего-то хватает шести. Каждую ночь я открываю глаза в пять утра, переворачиваюсь на бок лицом к окну и наблюдаю прямо из кровати, как постепенно светает. Сколько себя помню, всегда мечтала когда-нибудь долго пожить в отеле — в одиночном номере, с бесконечно слышной из коридора болтовней на чужом языке.
Почему-то со всеми людьми, которые мне здесь особенно нравятся, мы хоть раз, да обсуждали, что можно выпить. Я почти ничего не ем (совсем не хочу — будто насыщаюсь всем остальным), но и правда все время что-нибудь пью — за завтраком утаскиваю в номер чашку горячего кофе, болтаюсь по городу с холодным в руках, в сотый раз открываю шипучую бутылку короны, первый раз пробую мескаль и модело в баре старого города. Они, кстати, как и деревья, тоже удивительных для европейского глаза форм — лишенные четвертой стены, кажутся уютными карманами тесных улиц.
Подскажите: должно же существовать какое-то слово для чувства, в котором хлещущий через край восторженный опыт в то же самое время смешивается с острой тоской от осознания его неизбежной конечности?
Здесь по-настоящему яркое солнце: об этом несложно догадаться, посмотрев на карту (страна расположена близко к экватору и т.д.), но увидеть это, почувствовать — совсем другое дело. В первый день оно пометило ожогами мою белую, нежную, обычно бегущую такой грубости кожу. Но и очаровало солнце тоже с первого раза. Мне кажется, я не видела мир таким ярким: никогда — в самом прямом смысле слова и, признаюсь, давно — в переносном. Я снова и снова повторяю это мексиканским коллегам в ответ на вопросы о впечатлениях, но то, что действительно со мной происходит, не улавливается нечутким радаром светской беседы.
В первый день я не могла насмотреться на пальмы — и, кажется, не понимала, что никогда раньше не видела их, пока наконец не увидела в первый раз. Но и прочая флора, вроде кипарисов и кактусов разных видов, здесь удивительна. В Европе деревья, кусты и травы часто ломкие, хрупкие; даже крупные деревья — носители изящных форм. Здесь же зелень кажется распухшей от внутренних соков, по-медвежьи неловкой — с маслянистыми стволами, с тяжелыми, налитыми солнцем листьями, похожими на чьи-то большие лапы.
В духе магического реализма (простите за это клише) я живу здесь в рассогласованном времени. Мои сутки идут дольше положенного — в том числе, так я чувствовала свой день рождения, который — от первого до последнего поздравления — длился тридцать три часа вместо двадцати четырех. Из них для сна мне здесь отчего-то хватает шести. Каждую ночь я открываю глаза в пять утра, переворачиваюсь на бок лицом к окну и наблюдаю прямо из кровати, как постепенно светает. Сколько себя помню, всегда мечтала когда-нибудь долго пожить в отеле — в одиночном номере, с бесконечно слышной из коридора болтовней на чужом языке.
Почему-то со всеми людьми, которые мне здесь особенно нравятся, мы хоть раз, да обсуждали, что можно выпить. Я почти ничего не ем (совсем не хочу — будто насыщаюсь всем остальным), но и правда все время что-нибудь пью — за завтраком утаскиваю в номер чашку горячего кофе, болтаюсь по городу с холодным в руках, в сотый раз открываю шипучую бутылку короны, первый раз пробую мескаль и модело в баре старого города. Они, кстати, как и деревья, тоже удивительных для европейского глаза форм — лишенные четвертой стены, кажутся уютными карманами тесных улиц.
Подскажите: должно же существовать какое-то слово для чувства, в котором хлещущий через край восторженный опыт в то же самое время смешивается с острой тоской от осознания его неизбежной конечности?
❤78❤🔥24🔥9🥰2😍2