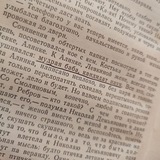Смешно.
Я долго не заводила такой канал, потому что не могла решить ровно две проблемы: 1. выбрать для него фотографию; 2. придумать, что написать в первом посте.
Первая проблема временно решилась, вторая — в процессе.
____
Первый вариант: пост, в котором я рассказываю о причинах создания канала, сомнениях и мотивациях, преследующих это решение. Пропустим его как избыточный: что-то похожее ведет сейчас каждый второй, и у меня — как у подписчицы многочисленных личных блогов — нет к их авторам вопросов о целесообразности.
____
Второй вариант.
И все же. После февраля у меня по разным причинам не ладятся отношения со всеми прочими соцсетями, а потребность в открытости осталась. Как и в возможности аккумулировать где-то свой опыт, потому что без такого осознанного собирания я чувствую, как он распадается — и я вместе с ним. Еще надо бы побороть мизантропию и замкнутость, еще — чаще делиться пережитым, подуманным, прочитанным и просмотренным, раз на большие тексты меня редко хватает. Еще — все же оставлять где-то ссылки на большие тексты, иначе, вдруг, никто их так и не прочитает.
Я долго не заводила такой канал, потому что не могла решить ровно две проблемы: 1. выбрать для него фотографию; 2. придумать, что написать в первом посте.
Первая проблема временно решилась, вторая — в процессе.
____
Первый вариант: пост, в котором я рассказываю о причинах создания канала, сомнениях и мотивациях, преследующих это решение. Пропустим его как избыточный: что-то похожее ведет сейчас каждый второй, и у меня — как у подписчицы многочисленных личных блогов — нет к их авторам вопросов о целесообразности.
____
Второй вариант.
И все же. После февраля у меня по разным причинам не ладятся отношения со всеми прочими соцсетями, а потребность в открытости осталась. Как и в возможности аккумулировать где-то свой опыт, потому что без такого осознанного собирания я чувствую, как он распадается — и я вместе с ним. Еще надо бы побороть мизантропию и замкнутость, еще — чаще делиться пережитым, подуманным, прочитанным и просмотренным, раз на большие тексты меня редко хватает. Еще — все же оставлять где-то ссылки на большие тексты, иначе, вдруг, никто их так и не прочитает.
❤47❤🔥1👍1
В этом месяце я стала штатной сотрудницей Школы дизайна НИУ ВШЭ, так что к уже привычным преподавательским обязанностям добавились новые интересные задачи. Одна из них — время от времени писать для нашего Медиа. Сегодня открыла там авторскую рубрику — про эксперименты в документальном кино. Начинаю рассказывать о них с исследования личной документалистики, которая мне, по крайней мере, сегодня, наиболее интересна. Вот здесь можно прочитать установочный текст, дальше будут появляться более специальные и узко направленные (об этом — о перспективах — как раз в заключительном абзаце):
«...поговорим о том, как отдельные режиссеры делали кино постоянным спутником жизни, проявляли с помощью камеры собственную политическую субъектность, сообщали об опыте пережитой травмы, открывали, прибегая к фантазии, в себе персонажа, оставаясь, вместе с тем, реальными людьми. Кроме того, только через анализ конкретных явлений можно проследить варианты решений куда более сложной проблемы: как, в самом деле, возможно снять фильм о себе, если я, как убеждает нас философия ХХ века, не менее флюидно, чем каноны документального кино?»
Кстати, так совпало, что в эту пятницу, 17 марта в 19.00, прочитаю в «Открытых мастерских» лекцию на ту же тему. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
«...поговорим о том, как отдельные режиссеры делали кино постоянным спутником жизни, проявляли с помощью камеры собственную политическую субъектность, сообщали об опыте пережитой травмы, открывали, прибегая к фантазии, в себе персонажа, оставаясь, вместе с тем, реальными людьми. Кроме того, только через анализ конкретных явлений можно проследить варианты решений куда более сложной проблемы: как, в самом деле, возможно снять фильм о себе, если я, как убеждает нас философия ХХ века, не менее флюидно, чем каноны документального кино?»
Кстати, так совпало, что в эту пятницу, 17 марта в 19.00, прочитаю в «Открытых мастерских» лекцию на ту же тему. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
design.hse.ru
Влечение к личному: об одной экспериментальной тенденции в документальном кино
Открываем новую рубрику, посвященную экспериментам в области документального кино. В ее рамках Дарина Поликарпова будет рассказывать о нестандартных практиках и индивидуальных режиссерских методах в постоянно меняющемся ландшафте документалистики. В первом…
❤27👍3❤🔥2🔥2
— книги
Лорри Мур. Птицы Америки.
Я никогда не была в Америке. Больше того: пока не начала учиться в Смольном, почти не знала людей, которые там бывали. В то же время, мне, как и всем детям девяностых, кажется, что я очень хорошо знаю её пейзажи, дороги, мотели, сомнительные районы с большими мусорными баками и места вроде Таймс Сквер и Бруклинского моста. Это потому, что я (мы?) смотрели очень много кино про Америку.
Рассказы Мур (особенно те, что в первой половине сборника) будто намеренно собраны из тех же фильмических мотивов: у матери и дочери не клеится беседа в автопутешествии; неудачливая дама запивает стаканом виски разрушенные мечты об актерской профессии; преподавательницу литературы фрустрирует слишком размеренный быт благополучного университетского кампуса. Поначалу даже казалось, что Мур, как и я, никогда не была в Америке, а подсмотрела ее в кино. Но это, конечно, неправда. Просто ее персонажи живут по соседству с героями фильмов Эдварда Бернса, Хэла Хартли, Ноа Баумбаха и Николь Холофсенер. Их жизнь, от свойственной ей стабильности, — монотонна, местами тускловата, и, по той же причине, уютна (а пренебрегать теплотой этого уюта могут, наверное, только те, кто уверен, что он от них никуда не денется).
Когда меня охватывает тревога, я даже выполняю какие-нибудь ритуалы из этих фильмов, будто успокаивающие дыхательные упражнения: заворачиваюсь в плед и ложусь на диван, выпиваю что-нибудь горячее с молоком, прибираюсь на кухне, выхожу на крыльцо / балкон подышать. Тексты Мур ощущаются, как такие же вдохи-выдохи (особенно, сейчас, когда ежедневно живешь с тревогой разной степени выраженности).
Ее письмо нарративно, но рассказы (думаю, тут как раз и сказывается выбранная короткая форма) удачно прерываются в тот момент, когда текст только подбирается к сюжетной определённости. Местами встречаются нелепые метафоры, вроде сравнения персонажки, обдумывающей тост, с "робким филателистом, собирающим марки в кляссер" (??). Но это можно простить, поскольку куда больше в тексте не образных, а вполне конкретных, точных описаний. Например, жестов, сопряженных с внутренним состоянием: героиня надела пальто за мгновение до долгожданного предложения задержаться и теперь не знает, как снять его без неловкости. Или синестетических уточнений, вроде "теплой колы", спешно выпитой перед уходом с вечеринки (все — из рассказа "Агнес из Айовы" — это мой фаворит).
И очень хорошим вышло название, в котором вообще схватывается главный нерв такого образа американской жизни — большие и разнообразные территории штатов, по которым разбросаны существа, примиряющие потребность угнездиться с готовностью в любой момент лететь в новое место.
Лорри Мур. Птицы Америки.
Я никогда не была в Америке. Больше того: пока не начала учиться в Смольном, почти не знала людей, которые там бывали. В то же время, мне, как и всем детям девяностых, кажется, что я очень хорошо знаю её пейзажи, дороги, мотели, сомнительные районы с большими мусорными баками и места вроде Таймс Сквер и Бруклинского моста. Это потому, что я (мы?) смотрели очень много кино про Америку.
Рассказы Мур (особенно те, что в первой половине сборника) будто намеренно собраны из тех же фильмических мотивов: у матери и дочери не клеится беседа в автопутешествии; неудачливая дама запивает стаканом виски разрушенные мечты об актерской профессии; преподавательницу литературы фрустрирует слишком размеренный быт благополучного университетского кампуса. Поначалу даже казалось, что Мур, как и я, никогда не была в Америке, а подсмотрела ее в кино. Но это, конечно, неправда. Просто ее персонажи живут по соседству с героями фильмов Эдварда Бернса, Хэла Хартли, Ноа Баумбаха и Николь Холофсенер. Их жизнь, от свойственной ей стабильности, — монотонна, местами тускловата, и, по той же причине, уютна (а пренебрегать теплотой этого уюта могут, наверное, только те, кто уверен, что он от них никуда не денется).
Когда меня охватывает тревога, я даже выполняю какие-нибудь ритуалы из этих фильмов, будто успокаивающие дыхательные упражнения: заворачиваюсь в плед и ложусь на диван, выпиваю что-нибудь горячее с молоком, прибираюсь на кухне, выхожу на крыльцо / балкон подышать. Тексты Мур ощущаются, как такие же вдохи-выдохи (особенно, сейчас, когда ежедневно живешь с тревогой разной степени выраженности).
Ее письмо нарративно, но рассказы (думаю, тут как раз и сказывается выбранная короткая форма) удачно прерываются в тот момент, когда текст только подбирается к сюжетной определённости. Местами встречаются нелепые метафоры, вроде сравнения персонажки, обдумывающей тост, с "робким филателистом, собирающим марки в кляссер" (??). Но это можно простить, поскольку куда больше в тексте не образных, а вполне конкретных, точных описаний. Например, жестов, сопряженных с внутренним состоянием: героиня надела пальто за мгновение до долгожданного предложения задержаться и теперь не знает, как снять его без неловкости. Или синестетических уточнений, вроде "теплой колы", спешно выпитой перед уходом с вечеринки (все — из рассказа "Агнес из Айовы" — это мой фаворит).
И очень хорошим вышло название, в котором вообще схватывается главный нерв такого образа американской жизни — большие и разнообразные территории штатов, по которым разбросаны существа, примиряющие потребность угнездиться с готовностью в любой момент лететь в новое место.
🕊15❤11👍2🔥2
— книги
Роман Осминкин и Анастасия Вепрева. Коммуналка на Петроградке [1].
Освоила за вечер. Дневник наблюдений за обитателями коммунальной квартиры с окнами на Васильевский остров, написанный людьми примерно одного со мной поколения (хотя Роман, конечно, постарше) и вышедшими из той же среды (Настя тоже закончила Смольный), о реалиях, в которых я сама проживала какое-то время. Словом, новый петербургский текст, который очень манит с ним познакомиться. Поскольку читала, не отрываясь, лицемерно было бы назвать книгу плохой, но вопросов к ней много.
1. Момент, который хвалят все рецензенты, — тот, где Осминкин (наиболее раздражающий из них двоих персонаж, регулярно ссылающийся — через раз невпопад — то на Канта, то на Деррида в герменевтических комментариях к разговорам с обитателями квартиры) с удивлением открывает для себя, что не только их пара превращает сожителей в персонажей, но и их, в свою очередь, соседи регулярно объективируют словом ботаны в кулуарных кухонных разговорах. Роман выказывает по этому поводу показное, слегка лицедейское неудовольствие, мол, как это, а мы думали — то наша привилегия. Это, действительно, удачно вписанный в книгу эпизод, впрочем, не снимающий всех этических вопросов к позиции пишущего / исследующего.
2. Проблема очевидна: Роман и Настя, хотя и стараются в послесловии всячески откреститься от обвинений в колонизации и экзотизации своих героев, ровно этим и занимаются. И аргумент про то, что они не заселились в квартиру, чтобы поисследовать «народ» (как, будто бы, думает Оксана Тимофеева в приведенном в тексте комментарии), а действительно в ней проживали, ежедневно разделяя коммунальный быт с людьми, им не очень близкими и не всегда понятными, срабатывает только отчасти. Во-первых, за 3,5 года жизни в квартире их оптика совершенно не меняется. Они сразу занимают дистанцированную позицию и придерживаются ее до самого конца, потому что, очевидно, именно ее и желали, из нее писать оказалось удобнее всего. В книге есть хорошие моменты (авторами не отрефлексированные), по которым заметно, что соседи хоть и считают их странными, все-таки проявляют к Роману и Насте больше интереса за пределами этих эпитетов. Например, в одной из сцен соседка Оксана просит Романа порепетировать с ее сыном декламацию стихотворения — потому что, говорит она, вы поэт, да и я видела в интернете, как вы стихи читаете. Роман, будем честны, не настолько известный человек, чтоб наткнуться на запись случайно, получится, только если специально искать, заинтересовавшись, чем таким эта парочка занимается по жизни. Другая героиня, Зинаида Петровна, желает Насте хорошего перформанса, а на следующий день интересуется, как он прошел. И вот первая проблема: ни Роман, ни Настя ничем подобным в книге не занимаются, не выказывают никакой ответной эмпатии. У них для каждого героя есть безотказный набор характеристик, которые вообще никак не трансформируются в течение стольких лет совместной жизни в условиях ежедневного общения. Порой складывается впечатление, что товарищи выходят из комнаты, только чтоб набрать материала на новую заметку, что вновь превращает это все не в книгу об опыте совместной жизни (которая обязательно вызывает какие-то нюансированные трансформации в отношениях с обеих сторон), а в фиксацию наблюдений за тем, кто, предполагают наблюдатели, ни меняться сам, ни влиять на наблюдающего не может и не должен в силу его заведомо слабой, расчеловеченной позиции.
Будь книга больше по объему, она от этого могла бы пострадать и в литературном плане: показаться ужасно монотонной. Здесь устать не успеваешь, тем более, одна линия развития там все же есть — у авторов заметно меняется стиль, что они сами фиксируют (момент, когда дневник записей для паблика превращается в текст, который — они уже чувствуют — может стать пьесой / книгой). Собственно, это тоже довольно примечательно. Ни герои, ни отношения с ними у них не меняются, а вот собственные литературные скиллы — да. К вопросу, что авторов на самом деле заботит.
Роман Осминкин и Анастасия Вепрева. Коммуналка на Петроградке [1].
Освоила за вечер. Дневник наблюдений за обитателями коммунальной квартиры с окнами на Васильевский остров, написанный людьми примерно одного со мной поколения (хотя Роман, конечно, постарше) и вышедшими из той же среды (Настя тоже закончила Смольный), о реалиях, в которых я сама проживала какое-то время. Словом, новый петербургский текст, который очень манит с ним познакомиться. Поскольку читала, не отрываясь, лицемерно было бы назвать книгу плохой, но вопросов к ней много.
1. Момент, который хвалят все рецензенты, — тот, где Осминкин (наиболее раздражающий из них двоих персонаж, регулярно ссылающийся — через раз невпопад — то на Канта, то на Деррида в герменевтических комментариях к разговорам с обитателями квартиры) с удивлением открывает для себя, что не только их пара превращает сожителей в персонажей, но и их, в свою очередь, соседи регулярно объективируют словом ботаны в кулуарных кухонных разговорах. Роман выказывает по этому поводу показное, слегка лицедейское неудовольствие, мол, как это, а мы думали — то наша привилегия. Это, действительно, удачно вписанный в книгу эпизод, впрочем, не снимающий всех этических вопросов к позиции пишущего / исследующего.
2. Проблема очевидна: Роман и Настя, хотя и стараются в послесловии всячески откреститься от обвинений в колонизации и экзотизации своих героев, ровно этим и занимаются. И аргумент про то, что они не заселились в квартиру, чтобы поисследовать «народ» (как, будто бы, думает Оксана Тимофеева в приведенном в тексте комментарии), а действительно в ней проживали, ежедневно разделяя коммунальный быт с людьми, им не очень близкими и не всегда понятными, срабатывает только отчасти. Во-первых, за 3,5 года жизни в квартире их оптика совершенно не меняется. Они сразу занимают дистанцированную позицию и придерживаются ее до самого конца, потому что, очевидно, именно ее и желали, из нее писать оказалось удобнее всего. В книге есть хорошие моменты (авторами не отрефлексированные), по которым заметно, что соседи хоть и считают их странными, все-таки проявляют к Роману и Насте больше интереса за пределами этих эпитетов. Например, в одной из сцен соседка Оксана просит Романа порепетировать с ее сыном декламацию стихотворения — потому что, говорит она, вы поэт, да и я видела в интернете, как вы стихи читаете. Роман, будем честны, не настолько известный человек, чтоб наткнуться на запись случайно, получится, только если специально искать, заинтересовавшись, чем таким эта парочка занимается по жизни. Другая героиня, Зинаида Петровна, желает Насте хорошего перформанса, а на следующий день интересуется, как он прошел. И вот первая проблема: ни Роман, ни Настя ничем подобным в книге не занимаются, не выказывают никакой ответной эмпатии. У них для каждого героя есть безотказный набор характеристик, которые вообще никак не трансформируются в течение стольких лет совместной жизни в условиях ежедневного общения. Порой складывается впечатление, что товарищи выходят из комнаты, только чтоб набрать материала на новую заметку, что вновь превращает это все не в книгу об опыте совместной жизни (которая обязательно вызывает какие-то нюансированные трансформации в отношениях с обеих сторон), а в фиксацию наблюдений за тем, кто, предполагают наблюдатели, ни меняться сам, ни влиять на наблюдающего не может и не должен в силу его заведомо слабой, расчеловеченной позиции.
Будь книга больше по объему, она от этого могла бы пострадать и в литературном плане: показаться ужасно монотонной. Здесь устать не успеваешь, тем более, одна линия развития там все же есть — у авторов заметно меняется стиль, что они сами фиксируют (момент, когда дневник записей для паблика превращается в текст, который — они уже чувствуют — может стать пьесой / книгой). Собственно, это тоже довольно примечательно. Ни герои, ни отношения с ними у них не меняются, а вот собственные литературные скиллы — да. К вопросу, что авторов на самом деле заботит.
👍9❤4💔2🥰1
— книги
Коммуналка на Петроградке [2].
3. Хотя книга не позиционируется как социологическое исследование, а у авторов и вправду нет намерения разобраться в причинах тех внешних проявлений, что они фиксируют, этого среза там все равно не хватает, его приходится додумывать самой. Здесь опять же речь о том, как описываются герои. Роману и Насте достаточно назвать их профессию, возраст, чуть-чуть набросать характеристики, которые им кажутся значимыми ("приехала с востока Украины", "сибирячка", "полненькая"), — и на этом все. Для исследования критически мало просто зафиксировать особенности поведения (например, что вот этот пьет, а эта все время ругается с мужем, а эта вечно в дурном настроении), без намерения попробовать либо выяснить, либо проанализировать причины этого поведения. Чтобы не заниматься спекуляциями, тут, наверное, пригодился бы более объемный вербатим — так получилось бы включить в текст не только взгляд со стороны, но и самоописательные нарративы героев о своих делах и переживаниях.
Если анализировать ничего не хочется, может быть, стоило бы проявить больше художественных (прости-господи) способностей к созданию объема во всем этом повествовании. Там есть такие хорошие фрагменты. Например, про соседку Ольгу, которая тащит на себе мужа и ребенка, работает поваром, приходит с работы поздно, выпивает пива и жарит среди ночи картошку с луком, наплевав на соседские комментарии о неуместности подобного действа. В книге (очень косвенно) ощущается, насколько Ольгу в семье уважают (особенно — муж ее сестры Вадим, проживающий тут же, в соседней комнате). Это такой образ, оттолкнувшись от которого читатель начинает различать героев и чувствовать присутствие чего-то большего за фасадом скудных описаний. Таких фрагментов в книге критически мало.
В общем, если это скорее проза, то из собранного материала можно было породить что-то более яркое, а если дневник, строго придерживающийся увиденного и услышанного, — видеть и слышать стоило побольше.
Коммуналка на Петроградке [2].
3. Хотя книга не позиционируется как социологическое исследование, а у авторов и вправду нет намерения разобраться в причинах тех внешних проявлений, что они фиксируют, этого среза там все равно не хватает, его приходится додумывать самой. Здесь опять же речь о том, как описываются герои. Роману и Насте достаточно назвать их профессию, возраст, чуть-чуть набросать характеристики, которые им кажутся значимыми ("приехала с востока Украины", "сибирячка", "полненькая"), — и на этом все. Для исследования критически мало просто зафиксировать особенности поведения (например, что вот этот пьет, а эта все время ругается с мужем, а эта вечно в дурном настроении), без намерения попробовать либо выяснить, либо проанализировать причины этого поведения. Чтобы не заниматься спекуляциями, тут, наверное, пригодился бы более объемный вербатим — так получилось бы включить в текст не только взгляд со стороны, но и самоописательные нарративы героев о своих делах и переживаниях.
Если анализировать ничего не хочется, может быть, стоило бы проявить больше художественных (прости-господи) способностей к созданию объема во всем этом повествовании. Там есть такие хорошие фрагменты. Например, про соседку Ольгу, которая тащит на себе мужа и ребенка, работает поваром, приходит с работы поздно, выпивает пива и жарит среди ночи картошку с луком, наплевав на соседские комментарии о неуместности подобного действа. В книге (очень косвенно) ощущается, насколько Ольгу в семье уважают (особенно — муж ее сестры Вадим, проживающий тут же, в соседней комнате). Это такой образ, оттолкнувшись от которого читатель начинает различать героев и чувствовать присутствие чего-то большего за фасадом скудных описаний. Таких фрагментов в книге критически мало.
В общем, если это скорее проза, то из собранного материала можно было породить что-то более яркое, а если дневник, строго придерживающийся увиденного и услышанного, — видеть и слышать стоило побольше.
❤5👍2🥰2💔1
— книги
Коммуналка на Петроградке [3].
4. Засыпая, думала, что могло бы эту книгу сделать более точной и интересной, не пытаясь заменить Осминкина и Вепреву на других авторов. Ведь просто призвать Романа и Настю не отдаляться, а приблизиться — слишком идеалистично, потому что тут мы тоже имеем дело с конкретными людьми. В конце концов, они честны в этой своей отстраненности, а для личной прозы, написанной от первого лица, такая честность важна, даже если и характеризует человека как не очень приятного сноба.
В книге есть хороший момент, когда кто-то из них описывает, как старожилка квартиры Зинаида Петровна бросает соседке Вере высокомерный упрек в том, что она не петербурженка, а понаехавшая. В той системе координат, которая есть у Романа и Насти есть мы (двое пишущих, обретающих через письмо субъектность) и они (те, кто мыслить через письмо не умеет). Но в наблюдениях выясняется, что у каждого жителя квартиры есть свои мы и они, и демаркация далеко не всегда пролегает по принципу образованности, как того хотелось бы Роману и Насте, сделавшим для себя этот критерий основным. Есть мужчины и женщины, есть коренные и приезжие, есть собственники и съемщики. И чтобы сделать повествование менее иерархичным, можно было бы воссоздать реальную плюралистичность существующих в этом пространстве иерархий, чтобы показать: да, мы снобы, но это наш способ отделять свое от чужого, этим занимаются все, просто на разных основаниях, делать вид, что иерархий нет — лукавство и лицемерие, мы на свою тоже имеем право.
Но главное: было бы хорошо воспользоваться прекрасным исходным, которое в книге почти никак не проявляет себя, — авторов двое. Эта пара почти всегда выступает как неразделенное мы, хотя там явно есть я и он(а). В честном рассказе об опыте этих трех лет не хватает линии о том, как Роман и Настя относятся друг к другу, наблюдают друг за другом, становятся персонажами друг для друга. Уверена, что наблюдать в быту за выспренно-богемным Романом не менее забавно, чем за Ольгой или Оксаной. И в этом наблюдении было бы больше любви и стремления к пониманию, которое, может быть, таким образом перекинулось бы и на других обитателей квартиры, либо же, на худой конец, уравняло в позициях всех ее жителей, включая самих пишущих.
5. Наконец, меня не оставляет озадаченность тем, что Роман и Настя в итоге создали книгу, которую боятся показать своим героям (они открыто об этом пишут и говорят в последующих интервью). Это, по-моему, табу, хоть для антропологического исследования, хоть для документальной прозы. Как будто они сами чувствуют, что их записи сделаны исподтишка, они могут обидеть и вызывать непонимание, а вот встречаться с этим реакциями мужества не хватает, удобнее воспользоваться ситуацией, при которой герои вряд ли зайдут в те магазины, где книга будет продаваться. Учитывая, что я сама вынашиваю идею автофикшн-романа, где у меня будут два главных героя, о которых я собираюсь писать не только приятные вещи, сделала себе заметку на будущее: не пиши ничего такого, что смутишься потом им показать.
Коммуналка на Петроградке [3].
4. Засыпая, думала, что могло бы эту книгу сделать более точной и интересной, не пытаясь заменить Осминкина и Вепреву на других авторов. Ведь просто призвать Романа и Настю не отдаляться, а приблизиться — слишком идеалистично, потому что тут мы тоже имеем дело с конкретными людьми. В конце концов, они честны в этой своей отстраненности, а для личной прозы, написанной от первого лица, такая честность важна, даже если и характеризует человека как не очень приятного сноба.
В книге есть хороший момент, когда кто-то из них описывает, как старожилка квартиры Зинаида Петровна бросает соседке Вере высокомерный упрек в том, что она не петербурженка, а понаехавшая. В той системе координат, которая есть у Романа и Насти есть мы (двое пишущих, обретающих через письмо субъектность) и они (те, кто мыслить через письмо не умеет). Но в наблюдениях выясняется, что у каждого жителя квартиры есть свои мы и они, и демаркация далеко не всегда пролегает по принципу образованности, как того хотелось бы Роману и Насте, сделавшим для себя этот критерий основным. Есть мужчины и женщины, есть коренные и приезжие, есть собственники и съемщики. И чтобы сделать повествование менее иерархичным, можно было бы воссоздать реальную плюралистичность существующих в этом пространстве иерархий, чтобы показать: да, мы снобы, но это наш способ отделять свое от чужого, этим занимаются все, просто на разных основаниях, делать вид, что иерархий нет — лукавство и лицемерие, мы на свою тоже имеем право.
Но главное: было бы хорошо воспользоваться прекрасным исходным, которое в книге почти никак не проявляет себя, — авторов двое. Эта пара почти всегда выступает как неразделенное мы, хотя там явно есть я и он(а). В честном рассказе об опыте этих трех лет не хватает линии о том, как Роман и Настя относятся друг к другу, наблюдают друг за другом, становятся персонажами друг для друга. Уверена, что наблюдать в быту за выспренно-богемным Романом не менее забавно, чем за Ольгой или Оксаной. И в этом наблюдении было бы больше любви и стремления к пониманию, которое, может быть, таким образом перекинулось бы и на других обитателей квартиры, либо же, на худой конец, уравняло в позициях всех ее жителей, включая самих пишущих.
5. Наконец, меня не оставляет озадаченность тем, что Роман и Настя в итоге создали книгу, которую боятся показать своим героям (они открыто об этом пишут и говорят в последующих интервью). Это, по-моему, табу, хоть для антропологического исследования, хоть для документальной прозы. Как будто они сами чувствуют, что их записи сделаны исподтишка, они могут обидеть и вызывать непонимание, а вот встречаться с этим реакциями мужества не хватает, удобнее воспользоваться ситуацией, при которой герои вряд ли зайдут в те магазины, где книга будет продаваться. Учитывая, что я сама вынашиваю идею автофикшн-романа, где у меня будут два главных героя, о которых я собираюсь писать не только приятные вещи, сделала себе заметку на будущее: не пиши ничего такого, что смутишься потом им показать.
❤8👍4🥰1💔1
7-9 апреля всех зову на фестиваль невидимого кино!
В этом году у проекта сменился состав кураторок: мы с Ксюшей решили взять паузу, Настя осталась, компанию ей составили Катя и Полина — любимые почти-выпускницы Смольного. Так что у фестиваля, возможно, появился новый, свежий взгляд — пока не знаю, посмотрю вместе с вами. Что точно изменилось, так это дизайн. Над ним, кстати, тоже работала моя студентка Алена Столетова, выпускница ШД 🤍 А также обновилась локация — вечный "Порядок слов" остался, но к нему прибавились еще два новых места. Ребята пока не объявили регистрацию на показы, но информация скоро появится в социальных сетях проекта.
Еще не все.
На новом смотре будет показан фильм Глеба Колондо, к которому я отношусь с большим трепетом еще со времен первого фестиваля. Написала о Глебе текст для сайта Сеанса. Прочитать его можно здесь. Спасибо Паше Пугачёву за то, что откликнулся на эту идею.
Фильмы Глеба не отделить от самого Глеба — в них слишком много «первого лица»: в узнаваемом закадровом голосе, субъективной камере, наборе мотивов, которые в том или ином виде повторяются от видео к видео, делая различимой ту самую специфическую чувствительность — озабоченность некоторыми ситуациями, некоторыми воспоминаниями и некоторыми вещами и существами. Удивительно другое: подчеркнуто личные документальные вымыслы можно проецировать на себя и разделить с другими, словно в опыте одного человека — с его фобиями, неврозами, мечтами — свернулся клубочком коллективный субъект, с которым легко ощутить родство.
В этом году у проекта сменился состав кураторок: мы с Ксюшей решили взять паузу, Настя осталась, компанию ей составили Катя и Полина — любимые почти-выпускницы Смольного. Так что у фестиваля, возможно, появился новый, свежий взгляд — пока не знаю, посмотрю вместе с вами. Что точно изменилось, так это дизайн. Над ним, кстати, тоже работала моя студентка Алена Столетова, выпускница ШД 🤍 А также обновилась локация — вечный "Порядок слов" остался, но к нему прибавились еще два новых места. Ребята пока не объявили регистрацию на показы, но информация скоро появится в социальных сетях проекта.
Еще не все.
На новом смотре будет показан фильм Глеба Колондо, к которому я отношусь с большим трепетом еще со времен первого фестиваля. Написала о Глебе текст для сайта Сеанса. Прочитать его можно здесь. Спасибо Паше Пугачёву за то, что откликнулся на эту идею.
Фильмы Глеба не отделить от самого Глеба — в них слишком много «первого лица»: в узнаваемом закадровом голосе, субъективной камере, наборе мотивов, которые в том или ином виде повторяются от видео к видео, делая различимой ту самую специфическую чувствительность — озабоченность некоторыми ситуациями, некоторыми воспоминаниями и некоторыми вещами и существами. Удивительно другое: подчеркнуто личные документальные вымыслы можно проецировать на себя и разделить с другими, словно в опыте одного человека — с его фобиями, неврозами, мечтами — свернулся клубочком коллективный субъект, с которым легко ощутить родство.
Журнал «Сеанс»
«Мы не банальны, мы прекрасны» — О фильмах Глеба Колондо
С 7 по 9 апреля в Петербурге пройдет Фестиваль невидимого кино. Об одном из открытых им в свое время героев, частом авторе «Сеанса» и, как оказалось, удивительном режиссере Глебе Колондо, рассказывает Дарина Поликарпова, курировавшая фестиваль в прошлые годы.
❤22👍5
В апреле-июне прочитаем на двоих с коллегой Ольгой Давыдовой курс по документальному кино:
Всего запланировано 6 встреч — по две в месяц. Поговорим о нечеловеческом взгляде, политике, фаунд-футадже, киноэссе, личной документалистике.
Первая лекция — моя — 12 апреля в 19.00 в Малом зале Дома кино.
Билеты, кажется, уже доступны в кассе кинотеатра.
«Нечеловеческий наблюдатель: от киноглаза до Левиафана»
Чем уникальна киноонтология Дзиги Вертова? Как мыслить кино вне парадигмы искусства? Как техники наблюдения связаны с полицией и политикой?
В первой лекции цикла расскажем, как в теории и практике документального кино формировалась идея камеры как «нечеловеческого наблюдателя» — сущности, способной увидеть мир недоступным нашему взгляду способом. Речь пойдет о ранних экспериментах Дзиги Вертова, киноэссе Харуна Фароки, современных документальных расследованиях Тео Энтони и Элеонор Вебер, опытах Люсьена Кастен-Тейлора и Вирины Паравел.
Всего запланировано 6 встреч — по две в месяц. Поговорим о нечеловеческом взгляде, политике, фаунд-футадже, киноэссе, личной документалистике.
Первая лекция — моя — 12 апреля в 19.00 в Малом зале Дома кино.
Билеты, кажется, уже доступны в кассе кинотеатра.
«Нечеловеческий наблюдатель: от киноглаза до Левиафана»
Чем уникальна киноонтология Дзиги Вертова? Как мыслить кино вне парадигмы искусства? Как техники наблюдения связаны с полицией и политикой?
В первой лекции цикла расскажем, как в теории и практике документального кино формировалась идея камеры как «нечеловеческого наблюдателя» — сущности, способной увидеть мир недоступным нашему взгляду способом. Речь пойдет о ранних экспериментах Дзиги Вертова, киноэссе Харуна Фароки, современных документальных расследованиях Тео Энтони и Элеонор Вебер, опытах Люсьена Кастен-Тейлора и Вирины Паравел.
❤30👍3
— книги
Роман Михайлов. Ягоды. Сборник сказок.
С недавно вышедшими фильмами Романа Михайлова ("Сказка для старых", "Снег, сестра и росомаха") у меня отношения категорически не сложились. Но поскольку основной сбой происходил не от нехватки, а, напротив, от ощущения текстуального избытка, которому подобранные кадры идут, как самодостаточной прозе — стоковые иллюстрации в дешевом издании, решила запоздало ознакомиться со сборниками. На полке были "Ягоды", с них и начала.
Что ж, у Михайлова и вправду свой мир. Но создает он его не с нуля, как фантаст, а как мистический реалист — с базы в виде непонятной российской действительности, в которой все времена спутались в сплошной галлюцинаторный приход. В "Войне" (сказке, открывающей сборник) герои идут след в след за персонажами братьев Стругацких и Тарковского и после небольшого железнодорожного трипа оказываются в Зоне. Только вот сталкеров в ней больше одного, и они до невозможности своевременно путаются в показаниях — то ли идет здесь война, то ли нет, то ли танки на учениях, то ли в разгаре бой, то ли потолок по фану решетит автоматная очередь, то ли съехавшие с катушек солдаты стреляют друг в друга, то ли померли люди в деревенских домах, то ли затихарились до лучших времен (последние, есть вероятность, так и не настанут, раз уж в этих уже всё, пишет Михайлов, устало).
Впрочем, следующие сказки поясняют, что на поезде до Зоны добираться не обязательно и у каждого по такой — в голове. Это, насколько я понимаю, вообще основной элемент михайловской метафизики: пацаны, братки, алкаши, подростки, мирные горожане — у всех свой синдром и свои панические атаки, свои кадавры и черные птицы. И всё — статистикой не учтенное. При чтении все-таки пытаешься для такого состояния рассчитать хоть какие-то координаты (среди ассоциаций — самые турбулентные: девяностые, 2014-й, сегодняшний бессрочный день?), но тщетно. Хотя недаром крайние точки именно такие — это эпоха кристаллизуется в аффекте.
Отдельно нравится идея называть это не рассказами, а сказками. Тут работает тот же прием, что в анимации — избавиться от адаптированной "детской" оболочки и выкрутить потенции тревожного, мучительного и бредового. Сказать, что "Ягоды" читать приятно — тоже звучит как бред, поэтому, несмотря на приятие, так говорить не стану. Пусть будет: "Ягоды" читать адекватно сегодняшнему дню. Не приходится думать: не мой тип проблемы. Мой, и спасибо за это.
Роман Михайлов. Ягоды. Сборник сказок.
С недавно вышедшими фильмами Романа Михайлова ("Сказка для старых", "Снег, сестра и росомаха") у меня отношения категорически не сложились. Но поскольку основной сбой происходил не от нехватки, а, напротив, от ощущения текстуального избытка, которому подобранные кадры идут, как самодостаточной прозе — стоковые иллюстрации в дешевом издании, решила запоздало ознакомиться со сборниками. На полке были "Ягоды", с них и начала.
Что ж, у Михайлова и вправду свой мир. Но создает он его не с нуля, как фантаст, а как мистический реалист — с базы в виде непонятной российской действительности, в которой все времена спутались в сплошной галлюцинаторный приход. В "Войне" (сказке, открывающей сборник) герои идут след в след за персонажами братьев Стругацких и Тарковского и после небольшого железнодорожного трипа оказываются в Зоне. Только вот сталкеров в ней больше одного, и они до невозможности своевременно путаются в показаниях — то ли идет здесь война, то ли нет, то ли танки на учениях, то ли в разгаре бой, то ли потолок по фану решетит автоматная очередь, то ли съехавшие с катушек солдаты стреляют друг в друга, то ли померли люди в деревенских домах, то ли затихарились до лучших времен (последние, есть вероятность, так и не настанут, раз уж в этих уже всё, пишет Михайлов, устало).
Впрочем, следующие сказки поясняют, что на поезде до Зоны добираться не обязательно и у каждого по такой — в голове. Это, насколько я понимаю, вообще основной элемент михайловской метафизики: пацаны, братки, алкаши, подростки, мирные горожане — у всех свой синдром и свои панические атаки, свои кадавры и черные птицы. И всё — статистикой не учтенное. При чтении все-таки пытаешься для такого состояния рассчитать хоть какие-то координаты (среди ассоциаций — самые турбулентные: девяностые, 2014-й, сегодняшний бессрочный день?), но тщетно. Хотя недаром крайние точки именно такие — это эпоха кристаллизуется в аффекте.
Отдельно нравится идея называть это не рассказами, а сказками. Тут работает тот же прием, что в анимации — избавиться от адаптированной "детской" оболочки и выкрутить потенции тревожного, мучительного и бредового. Сказать, что "Ягоды" читать приятно — тоже звучит как бред, поэтому, несмотря на приятие, так говорить не стану. Пусть будет: "Ягоды" читать адекватно сегодняшнему дню. Не приходится думать: не мой тип проблемы. Мой, и спасибо за это.
❤10👍3🔥1