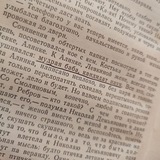Очень радуюсь тенденции последнего года — новым переизданиям ключевых текстов классической теории кино. В начале 2024-го года в Ad Marginem вышла Теория кино. Реабилитация физической реальности Зигфрида Кракауэра (уже стоит у меня на полке), теперь там же выпустили самую известную работу Белы Балажа — Видимый человек, или Культура кино. И еще недавно появилась Фотогения Луи Деллюка.
Переиздание Балажа из всего этого, пожалуй, самое нужное. Не только потому, что, на мой взгляд, его тексты среди всех перечисленных наиболее изящные и интересные для обсуждения в свете поворота к аффективности и перцептивности...
...но и потому, что в СССР они издавались какими-то несуразными кусками, из-за чего могло показаться, что он, как типичный представитель современной академической культуры, повторяет одно и то же, чтоб только увеличить количество публикаций. Например, Видимый человек и Культура кино выходили двумя отдельными книгами, хотя в оригинальном издании это две части одной работы.
Все эти тексты настолько известны, что их можно без труда найти в сети, но насколько же приятнее читать их не в кривых pdf-ках (бумажные версии всего названного очень сложно отыскать даже в хороших букинистах), а с новыми предисловиями, в приятном оформлении. Можно, конечно, посетовать, что (почти) не выпускают что-то более современное, у чего вовсе отсутствует русский перевод, но едва ли две эти задачи должны между собой конкурировать, одно не важнее другого. Теория кино не работает по принципу последовательного обнуления: более свежий текст не оказывается важнее раннего. Так что начинать серьезное и основательное погружение в это поле в любом случае нужно не с Вивиан Собчак и Хамида Нафиси, а с Эйзенштейна, Балажа, Кракауэра и Базена. И погружение это теперь точно будет приятнее (ждем переиздания знаменитого сборника Из истории французской киномысли, когда-то составленного Михаилом Ямпольским).
Переиздание Балажа из всего этого, пожалуй, самое нужное. Не только потому, что, на мой взгляд, его тексты среди всех перечисленных наиболее изящные и интересные для обсуждения в свете поворота к аффективности и перцептивности...
Человек визуальной культуры словами не мыслит и не выписывает в воздухе слоги наподобие азбуки Морзе. Его жесты выражают не понятия, но спонтанное, нерациональное «я», и то, что читается на его лице или в движениях, извержено из таких душевных глубин, для описания которых слов не хватит. В этот момент дух непосредственно становится плотью — безгласной, видимой. Нынче человечество изучает заново во многом забытый язык мимики. Это не язык глухонемых, где слова заменены жестами, но визуальное послание воплотившейся в теле души. Человек снова становится видимым.
...но и потому, что в СССР они издавались какими-то несуразными кусками, из-за чего могло показаться, что он, как типичный представитель современной академической культуры, повторяет одно и то же, чтоб только увеличить количество публикаций. Например, Видимый человек и Культура кино выходили двумя отдельными книгами, хотя в оригинальном издании это две части одной работы.
Все эти тексты настолько известны, что их можно без труда найти в сети, но насколько же приятнее читать их не в кривых pdf-ках (бумажные версии всего названного очень сложно отыскать даже в хороших букинистах), а с новыми предисловиями, в приятном оформлении. Можно, конечно, посетовать, что (почти) не выпускают что-то более современное, у чего вовсе отсутствует русский перевод, но едва ли две эти задачи должны между собой конкурировать, одно не важнее другого. Теория кино не работает по принципу последовательного обнуления: более свежий текст не оказывается важнее раннего. Так что начинать серьезное и основательное погружение в это поле в любом случае нужно не с Вивиан Собчак и Хамида Нафиси, а с Эйзенштейна, Балажа, Кракауэра и Базена. И погружение это теперь точно будет приятнее (ждем переиздания знаменитого сборника Из истории французской киномысли, когда-то составленного Михаилом Ямпольским).
🔥25❤20👍8
Недавно друг В. поинтересовался, понравилась ли мне новая книга Крис Краус. Я отделалась лаконичным нет, но обещала поделиться развёрнутым мнением позже, потому что с ним возникла неоднозначность. Я еле дочитала Пришельцев и анорексию, но совсем не хотелось отзываться о Краус с резкостью. И чтобы сформулировать, почему эта несуразная и затянутая книга все равно не вызывает антипатии, потребовалось прочитать что-то по-настоящему раздражающее.
Нужный контраст задал текст Даниэля Шрайбера: в Один и ок за кринжовым названием скрывается не менее неловкое чтиво. Чрезвычайно привилегированный, до тошноты во всем благополучный писатель тратит несколько страниц на описание душевного смятения от невозможности решиться на поездку в Альпы; отправляется в писательские резиденции, чтобы писать там книги о пребывании в писательских резиденциях (поразительная рекурсия посредственности!); задумывается о собственном одиночестве на фоне (ни за что не догадаетесь) ковида и лечит его (ни за что не догадаетесь) выращиванием растений.
Но самое неприятное в тексте — полное отсутствие самоиронии и шулерский ход с неизменным лучиком надежды в конце: когда автор долго описывает себя несчастным, чтобы в финале кокетливо сообщить, что жизнь его непостижимым образом сделалась лучше благодаря уходу за цветами и собиранию афоризмов из философских текстов. Хотя такой итог, в общем, логичен: надуманные проблемы и правда имеют свойство разрешаться легко.
Так вот: чем точно выделяется Краус на фоне других авторов, занятых самоописанием, так это честным, последовательным и лишенным фальшивого хэппи-энда рассказом о своих провалах. Последние важно отличать от травм, на которых скорее сфокусирован современный автофикшн. Но что требует большей отваги? Разумеется, о многих травмах писать действительно тяжело — все еще с содроганием вспоминаю, например, начало Хронологии воды. И все же контекст, в котором сегодня существуют личные тексты, сделал этот процесс куда более комфортным: теперь, признаваясь в наличии раны, едва ли чувствуешь себя неловко или неуместно, позиция травмированного обрела специфическое достоинство. Другое дело — провал: по себе знаю, что о нем сообщать до сих пор по-настоящему трудно.
Родись Краус в другое время, наверняка нашла бы себя в стендапе — вот там принято тематизировать не травмы, а провалы. У нее это началось еще в I Love Dick, где, конечно, много воодушевляющего о поиске писательского я, но в центре, как ни крути, история выдуманного романа с мужчиной, которому на Краус абсолютно плевать. Пришельцы и анорексия развивает именно этот мотив, превращаясь в жизнеописание не просто неудачницы, но человека, по многочисленным оценкам, правда не очень талантливого — и сама Краус это за собой как будто признает, превращая нехватку в интересную для высказывания позицию.
Лучшая линия книги связана с абсолютно удручающей работой над ее единственным фильмом, с унизительными неделями на Берлинском кинорынке.
В ошеломительно нелепой идее вплести в такой личный сюжет смерти Ульрики Майнхоф и Симоны Вайль, инопланетян и феминизм — заманчиво увидеть воплощение той же концептуальной неловкости, но уже писательской, а не режиссерской.
Впрочем, скорее всего, я надумываю, и сама Краус с таким тезисом не согласилась бы; вероятно, ее отношение к этому странному тексту куда более серьезно. Но мне нравится видеть в нем именно эту предельность провала — без желания обнулить описанную в тексте позицию созданием мощной прозы и без шансов на последнем вираже обернуться чем-то воодушевляющим. У Пришельцев и анорексии два финала: в одном перечисляются письма с отказами, полученные по итогам берлинской поездки, в другом выясняется, что бывший отдушиной партнер для секса по телефону утомился от их разговоров и украдкой начал искать себе новую собеседницу.
Нужный контраст задал текст Даниэля Шрайбера: в Один и ок за кринжовым названием скрывается не менее неловкое чтиво. Чрезвычайно привилегированный, до тошноты во всем благополучный писатель тратит несколько страниц на описание душевного смятения от невозможности решиться на поездку в Альпы; отправляется в писательские резиденции, чтобы писать там книги о пребывании в писательских резиденциях (поразительная рекурсия посредственности!); задумывается о собственном одиночестве на фоне (ни за что не догадаетесь) ковида и лечит его (ни за что не догадаетесь) выращиванием растений.
Но самое неприятное в тексте — полное отсутствие самоиронии и шулерский ход с неизменным лучиком надежды в конце: когда автор долго описывает себя несчастным, чтобы в финале кокетливо сообщить, что жизнь его непостижимым образом сделалась лучше благодаря уходу за цветами и собиранию афоризмов из философских текстов. Хотя такой итог, в общем, логичен: надуманные проблемы и правда имеют свойство разрешаться легко.
Так вот: чем точно выделяется Краус на фоне других авторов, занятых самоописанием, так это честным, последовательным и лишенным фальшивого хэппи-энда рассказом о своих провалах. Последние важно отличать от травм, на которых скорее сфокусирован современный автофикшн. Но что требует большей отваги? Разумеется, о многих травмах писать действительно тяжело — все еще с содроганием вспоминаю, например, начало Хронологии воды. И все же контекст, в котором сегодня существуют личные тексты, сделал этот процесс куда более комфортным: теперь, признаваясь в наличии раны, едва ли чувствуешь себя неловко или неуместно, позиция травмированного обрела специфическое достоинство. Другое дело — провал: по себе знаю, что о нем сообщать до сих пор по-настоящему трудно.
Родись Краус в другое время, наверняка нашла бы себя в стендапе — вот там принято тематизировать не травмы, а провалы. У нее это началось еще в I Love Dick, где, конечно, много воодушевляющего о поиске писательского я, но в центре, как ни крути, история выдуманного романа с мужчиной, которому на Краус абсолютно плевать. Пришельцы и анорексия развивает именно этот мотив, превращаясь в жизнеописание не просто неудачницы, но человека, по многочисленным оценкам, правда не очень талантливого — и сама Краус это за собой как будто признает, превращая нехватку в интересную для высказывания позицию.
Лучшая линия книги связана с абсолютно удручающей работой над ее единственным фильмом, с унизительными неделями на Берлинском кинорынке.
Показ Грэвити и Грейс назначен на девять утра в пятницу — последний день ярмарки. Я представила, как люди будут ковылять на ярмарку к одиннадцати, если вообще кто-то доползет туда после бурной вечеринки закрытия — а может, и нескольких; ни на одну из них, как выяснилось, я не была приглашена.
В ошеломительно нелепой идее вплести в такой личный сюжет смерти Ульрики Майнхоф и Симоны Вайль, инопланетян и феминизм — заманчиво увидеть воплощение той же концептуальной неловкости, но уже писательской, а не режиссерской.
Впрочем, скорее всего, я надумываю, и сама Краус с таким тезисом не согласилась бы; вероятно, ее отношение к этому странному тексту куда более серьезно. Но мне нравится видеть в нем именно эту предельность провала — без желания обнулить описанную в тексте позицию созданием мощной прозы и без шансов на последнем вираже обернуться чем-то воодушевляющим. У Пришельцев и анорексии два финала: в одном перечисляются письма с отказами, полученные по итогам берлинской поездки, в другом выясняется, что бывший отдушиной партнер для секса по телефону утомился от их разговоров и украдкой начал искать себе новую собеседницу.
❤13❤🔥9👍4
Еще с окончания Послания висит недописанная заметка об одном мотиве, который неожиданно соединил три симпатичных мне фильма из совершенно разных программ. Это отшельничество — главная тема риверсовского Боганклоха, косвенная линия в фильме Кемпинг у озера из программы Новые голоса и один из важных сюжетов Снега в моем дворе, новой работы Бакура Бакурадзе, которая точно окажется в моем списке лучших фильмов 2024 года.
Чем больше времени проходит с просмотра, тем теплее моё отношение. Бакурадзе почти десять лет ничего не снимал, поэтому был риск, что середину двадцатых он спутает с нулевыми, ограничится неловким воспроизведением уже не слишком свежей интонации, одним из создателей которой когда-то стал. И в Снег в моём дворе правда встречаются мотивы новых тихих: во всяком случае, в московских сегментах, где снимается сам Бакурадзе, отыгрывая привычную для своих прошлых героев неприкаянность в стеклянных интерьерах большого города (есть тут даже каноничные кадры с людьми в отражениях). Вот только спустя столько лет работы в кино он помещает в них самого себя, а не вымышленных персонажей, тем самым нарушая дистанцию между собой и фильмом, которая оставалась неприкосновенной в кино нулевых во имя подчеркнутой холодности. И это прекрасный шаг — пусть и очень осторожный, без свойственной нашей эпохе откровенности в разговоре о личных чувствах. Впрочем, именно эта робость и подкупает: будто Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
Но есть в Снег в моем дворе и вторая партия — друга детских времен, неожиданно обнаруженного героем Бакурадзе в зрелости. Он, Леван, уже много лет живет уединенно, по-отшельнически, изредка принимая гостей в не слишком опрятной, но чрезвычайно уютной квартире в закоулках Тбилиси. Будь в фильме только этот сюжет, от него все равно сложно было бы оторваться: можно часами наблюдать, как на фоне побелевшего двора бегают теплые, коричневые собаки; как герои неспешно попивают чай из пиал под ритм мокрого снега; как сидят на деревянном балконе, окутанном паутиной бельевых веревок; как Леван сушит феном промокшие шерстяные носки, опершись о стену с орнаментом из коротких и длинных трещин. Интонационно герой единичен и уникален (возможно, Леон Гоголадзе попросту сыграл сам себя — это его единственная роль в кино), но при желании узнаваем — это волею судьбы оставшийся одиноким, пожилой, но не старый еще мужчина, у которого налажен удобный ему, но непостижимый со стороны холостяцкий быт. Так что квартира немного напоминает гараж постсоветских традиций: здесь могут отсутствовать вещи, нужные в любом комфортном жилище, но вместо них тут и там рассованы тысячи мелочей — либо с историей, либо для таинственного когда-нибудь. Прекрасно, что Бакурадзе находит героя, для которого отшельническая жизнь не поза, а естество. Сразу исчезают штампы: Леван, конечно, пишет книгу, как и положено одиночкам, но как-то неромантично, лениво, не желая переутомляться и потому задействуя только два пальца из десяти.
В прошлый раз после Послания я признавалась в симпатии Магнитным полям за желание вести разговор о дружбе. Снег в моем дворе тоже об этом — о повторном сближении и о том, что нужду друг в друге никогда не выйдет отмерить поровну.
Чем больше времени проходит с просмотра, тем теплее моё отношение. Бакурадзе почти десять лет ничего не снимал, поэтому был риск, что середину двадцатых он спутает с нулевыми, ограничится неловким воспроизведением уже не слишком свежей интонации, одним из создателей которой когда-то стал. И в Снег в моём дворе правда встречаются мотивы новых тихих: во всяком случае, в московских сегментах, где снимается сам Бакурадзе, отыгрывая привычную для своих прошлых героев неприкаянность в стеклянных интерьерах большого города (есть тут даже каноничные кадры с людьми в отражениях). Вот только спустя столько лет работы в кино он помещает в них самого себя, а не вымышленных персонажей, тем самым нарушая дистанцию между собой и фильмом, которая оставалась неприкосновенной в кино нулевых во имя подчеркнутой холодности. И это прекрасный шаг — пусть и очень осторожный, без свойственной нашей эпохе откровенности в разговоре о личных чувствах. Впрочем, именно эта робость и подкупает: будто Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
Но есть в Снег в моем дворе и вторая партия — друга детских времен, неожиданно обнаруженного героем Бакурадзе в зрелости. Он, Леван, уже много лет живет уединенно, по-отшельнически, изредка принимая гостей в не слишком опрятной, но чрезвычайно уютной квартире в закоулках Тбилиси. Будь в фильме только этот сюжет, от него все равно сложно было бы оторваться: можно часами наблюдать, как на фоне побелевшего двора бегают теплые, коричневые собаки; как герои неспешно попивают чай из пиал под ритм мокрого снега; как сидят на деревянном балконе, окутанном паутиной бельевых веревок; как Леван сушит феном промокшие шерстяные носки, опершись о стену с орнаментом из коротких и длинных трещин. Интонационно герой единичен и уникален (возможно, Леон Гоголадзе попросту сыграл сам себя — это его единственная роль в кино), но при желании узнаваем — это волею судьбы оставшийся одиноким, пожилой, но не старый еще мужчина, у которого налажен удобный ему, но непостижимый со стороны холостяцкий быт. Так что квартира немного напоминает гараж постсоветских традиций: здесь могут отсутствовать вещи, нужные в любом комфортном жилище, но вместо них тут и там рассованы тысячи мелочей — либо с историей, либо для таинственного когда-нибудь. Прекрасно, что Бакурадзе находит героя, для которого отшельническая жизнь не поза, а естество. Сразу исчезают штампы: Леван, конечно, пишет книгу, как и положено одиночкам, но как-то неромантично, лениво, не желая переутомляться и потому задействуя только два пальца из десяти.
В прошлый раз после Послания я признавалась в симпатии Магнитным полям за желание вести разговор о дружбе. Снег в моем дворе тоже об этом — о повторном сближении и о том, что нужду друг в друге никогда не выйдет отмерить поровну.
❤🔥19❤7👍6🔥3
Многие спрашивают: не победительница, но призёрка (и также -- специальное устное упоминание некоторых гостей церемонии За защиту чести и достоинства документалистки Лидии Степановой 💪🏼)
Пью пиво в предновогодней Москве благодаря Премии им. Дзиги Вертова. Спасибо тем, кто номинировал и пригласил -- это очень трогательно!
Пью пиво в предновогодней Москве благодаря Премии им. Дзиги Вертова. Спасибо тем, кто номинировал и пригласил -- это очень трогательно!
❤84❤🔥30🔥12👍5🥰4
Кинотоп 2024 🎄
1. Анора (Шон Бейкер)
...источает такую откровенную доброту, такой силы нежность, таких масштабов принятие, что выходишь из зала с надеждой когда-нибудь научиться смотреть на людей, как Шон Бейкер.
2. Каникулы (Анна Кузнецова)
...про бесчисленное количество маленьких и больших компромиссов, желаний, публичных жестов, которые так тяжело бесконечно, ежедневно, повсюду координировать в нашей реальности, норовящей даже самым личным вещам навязать протокол.
3. Невеста (Инна Омельченко)
...исключительно редкий документальный фильм может без обманного марафета показать своим героям, что они светлее, чем им самим порой кажется.
4. Нежный восток (Шон Прайс Уильямс)
...Лиллиан бежит в обратную национальной мифологии сторону — не с Востока на Запад, а с Запада на Восток, с условной дикой земли в столь же условную респектабельную цивилизацию, портрет которой у Уильямса получается очень ерническим.
5. Снег в моём дворе (Бакур Бакурадзе)
...Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
6. Я видел свечение телевизора (Джейн Шёнбрун)
...питерпэновская история об упрямстве хрупких, тех, кто уверен, что именно им жизнь уготовила другой сценарий.
7. Претенденты (Лука Гуаданьино)
...полностью построен на принципе фотогении — актерской (хочу больше фильмов с Джошем О`Коннором), визуальной (теннис в слоу мо выразителен, как в фильмах 1920-х) и звуковой.
8. Оплошность / Глупая шутка / Pratfall (Алекс Андре)
Про этот очень малоизвестный фильм, о которым я узнала благодаря Дмитрию Буныгину, написала не в канал, а в дайджест журнала Синетикль.
«Шутка» смотрится так, словно кто-то включил вам «Перед рассветом» и, спустя четверть фильма, шепнул, что один из героев до финальных титров обязательно словит пулю.
9. Панические атаки (Иван И. Твердовский)
Об этом фильме я не писала и, наверное, уже не напишу. Но, кажется, его можно посмотреть двумя противоположными способами: увидеть либо чернуху, либо очень едкую иронию. Я предлагаю второе.
10. Черный пес (Гуань Ху)
...въезжая в родной город после долгого отсутствия, в первую очередь замечаешь, как там, где раньше ничего не было, высится новый жилищный комплекс, и вздыхаешь именно по пустотам, которые уже не вернуть.
Лучшая бутылочка пива в жаркий летний день:
Дом у дороги (Даг Лайман)
Лучшие сериалы:
Олененок
Проклятие
Рипли
Лучшие прочтения 2024 🎄
— Александр Солженицын. В круге первом.
— Владимир Сорокин. Норма.
— Даша Благова. Течения.
— Мишель Фуко. Герменевтика субъекта.
— Егана Джаббарова. Руки женщин моей семьи были не для письма.
— Маша Гаврилова. Ужасы жизни.
— Анатолий Рыбаков. Дети Арбата.
— Мария Степанова. Фокус.
— Жак Рансьер. Бела Тарр: время после.
— Антон Секисов. Курорт.
По списку книг без ссылок на посты понятно, что я критически не успеваю рассказывать даже о самых важных для себя текстах, поэтому после январских непременно наверстаю упущенное хотя бы отчасти: напишу наконец и о том, как и зачем слоняюсь весь последний год по советской литературе, и о двух полюбившихся мне книгах 2024 года, по-разному выразивших опыт эмиграции.
1. Анора (Шон Бейкер)
...источает такую откровенную доброту, такой силы нежность, таких масштабов принятие, что выходишь из зала с надеждой когда-нибудь научиться смотреть на людей, как Шон Бейкер.
2. Каникулы (Анна Кузнецова)
...про бесчисленное количество маленьких и больших компромиссов, желаний, публичных жестов, которые так тяжело бесконечно, ежедневно, повсюду координировать в нашей реальности, норовящей даже самым личным вещам навязать протокол.
3. Невеста (Инна Омельченко)
...исключительно редкий документальный фильм может без обманного марафета показать своим героям, что они светлее, чем им самим порой кажется.
4. Нежный восток (Шон Прайс Уильямс)
...Лиллиан бежит в обратную национальной мифологии сторону — не с Востока на Запад, а с Запада на Восток, с условной дикой земли в столь же условную респектабельную цивилизацию, портрет которой у Уильямса получается очень ерническим.
5. Снег в моём дворе (Бакур Бакурадзе)
...Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
6. Я видел свечение телевизора (Джейн Шёнбрун)
...питерпэновская история об упрямстве хрупких, тех, кто уверен, что именно им жизнь уготовила другой сценарий.
7. Претенденты (Лука Гуаданьино)
...полностью построен на принципе фотогении — актерской (хочу больше фильмов с Джошем О`Коннором), визуальной (теннис в слоу мо выразителен, как в фильмах 1920-х) и звуковой.
8. Оплошность / Глупая шутка / Pratfall (Алекс Андре)
Про этот очень малоизвестный фильм, о которым я узнала благодаря Дмитрию Буныгину, написала не в канал, а в дайджест журнала Синетикль.
«Шутка» смотрится так, словно кто-то включил вам «Перед рассветом» и, спустя четверть фильма, шепнул, что один из героев до финальных титров обязательно словит пулю.
9. Панические атаки (Иван И. Твердовский)
Об этом фильме я не писала и, наверное, уже не напишу. Но, кажется, его можно посмотреть двумя противоположными способами: увидеть либо чернуху, либо очень едкую иронию. Я предлагаю второе.
10. Черный пес (Гуань Ху)
...въезжая в родной город после долгого отсутствия, в первую очередь замечаешь, как там, где раньше ничего не было, высится новый жилищный комплекс, и вздыхаешь именно по пустотам, которые уже не вернуть.
Лучшая бутылочка пива в жаркий летний день:
Дом у дороги (Даг Лайман)
Лучшие сериалы:
Олененок
Проклятие
Рипли
Лучшие прочтения 2024 🎄
— Александр Солженицын. В круге первом.
— Владимир Сорокин. Норма.
— Даша Благова. Течения.
— Мишель Фуко. Герменевтика субъекта.
— Егана Джаббарова. Руки женщин моей семьи были не для письма.
— Маша Гаврилова. Ужасы жизни.
— Анатолий Рыбаков. Дети Арбата.
— Мария Степанова. Фокус.
— Жак Рансьер. Бела Тарр: время после.
— Антон Секисов. Курорт.
По списку книг без ссылок на посты понятно, что я критически не успеваю рассказывать даже о самых важных для себя текстах, поэтому после январских непременно наверстаю упущенное хотя бы отчасти: напишу наконец и о том, как и зачем слоняюсь весь последний год по советской литературе, и о двух полюбившихся мне книгах 2024 года, по-разному выразивших опыт эмиграции.
❤59❤🔥12👍5🔥2👀1
С наступающим! 🎄
Я уже забыла, где это слышала или читала, но в какую-то из бесчисленных вариаций публичного обсуждения девяностых закралась нетривиальная мысль: было бы полезнее и нужнее, вспоминая об этой противоречивой, тяжелой для многих эпохе, сконцентрироваться не на вынесенных оттуда обидах и унижениях, не на незалеченных травмах, питающих демонов зависти, разочарованности и гнева, а на тех эпизодах, из которых отдельный человек, несмотря на трудные обстоятельства, смог выйти, не растеряв достоинства. Мог предать, но не предал; мог кинуть, но не кинул; мог пройти мимо, но не прошел; мог оскорбить, но сдержался. Речь, разумеется, не только о девяностых: размышления о прошлом можно развернуть к настоящему и превратить в пожелание.
Не суть, какими оказываются последствия поступков по совести — очень масштабными или, наоборот, пустяковыми, такими, что забылись на следующий день, если вообще хоть кем-то были замечены, — их важно собирать и удерживать прежде всего в собственной памяти. Ведь именно из этих случаев постепенно вырастает личное достоинство как ценность, что-то, чем дорожишь. Его захочется, сильно притом не выпячивая, брать везде с собой, бережно хранить и никогда им не поступаться. Кажется, что человек, который такое достоинство имеет, всегда сможет верить, что ум, силы и сердце его не предадут, что он не поддастся голосам ни яростным, ни насмешливым, ни громким, ни сладким, что не позволит разрушительным чувствам утащить себя в темное-темное место, из которого так тяжело потом выбираться. Ещё важно в этом деле быть к себе (и к другим) строгим, но не беспощадным — не бывает людей, которым всякий раз удавалось бы противостоять малодушию.
Всегда выдыхаю, если в символичную новогоднюю ночь говорю с собой и обнаруживаю, что достоинство это за год раздалось хотя бы слегка. И вам хочу пожелать такого же разговора.
До встречи в новом году! Спасибо, что читаете)
P. S. Вчера образовалась новая ситуация, мимо которой сложно пройти: вот большой текст о туманных перспективах Порядка слов — книжного магазина, пространства, которому многим обязаны буквально все петербургские интеллектуалы моего поколения. Давайте за праздники найдём время именно там купить новые книги.
Я уже забыла, где это слышала или читала, но в какую-то из бесчисленных вариаций публичного обсуждения девяностых закралась нетривиальная мысль: было бы полезнее и нужнее, вспоминая об этой противоречивой, тяжелой для многих эпохе, сконцентрироваться не на вынесенных оттуда обидах и унижениях, не на незалеченных травмах, питающих демонов зависти, разочарованности и гнева, а на тех эпизодах, из которых отдельный человек, несмотря на трудные обстоятельства, смог выйти, не растеряв достоинства. Мог предать, но не предал; мог кинуть, но не кинул; мог пройти мимо, но не прошел; мог оскорбить, но сдержался. Речь, разумеется, не только о девяностых: размышления о прошлом можно развернуть к настоящему и превратить в пожелание.
Не суть, какими оказываются последствия поступков по совести — очень масштабными или, наоборот, пустяковыми, такими, что забылись на следующий день, если вообще хоть кем-то были замечены, — их важно собирать и удерживать прежде всего в собственной памяти. Ведь именно из этих случаев постепенно вырастает личное достоинство как ценность, что-то, чем дорожишь. Его захочется, сильно притом не выпячивая, брать везде с собой, бережно хранить и никогда им не поступаться. Кажется, что человек, который такое достоинство имеет, всегда сможет верить, что ум, силы и сердце его не предадут, что он не поддастся голосам ни яростным, ни насмешливым, ни громким, ни сладким, что не позволит разрушительным чувствам утащить себя в темное-темное место, из которого так тяжело потом выбираться. Ещё важно в этом деле быть к себе (и к другим) строгим, но не беспощадным — не бывает людей, которым всякий раз удавалось бы противостоять малодушию.
Всегда выдыхаю, если в символичную новогоднюю ночь говорю с собой и обнаруживаю, что достоинство это за год раздалось хотя бы слегка. И вам хочу пожелать такого же разговора.
До встречи в новом году! Спасибо, что читаете)
P. S. Вчера образовалась новая ситуация, мимо которой сложно пройти: вот большой текст о туманных перспективах Порядка слов — книжного магазина, пространства, которому многим обязаны буквально все петербургские интеллектуалы моего поколения. Давайте за праздники найдём время именно там купить новые книги.
❤70🕊12
Опытный, ответственный, душевный, прекрасно знающий кино Паша Пугачёв ищет новую работу:
Telegram
я и орсон уэллс
Пришло время и для такого поста*: я ищу работу.
С наступлением нового года закончилась моя редакционная деятельность в «Сеансе», где я на протяжении шести лет вел сайт и социальные сети. Что в это входило? Заказ и редактура текстов, написание к ним лидов…
С наступлением нового года закончилась моя редакционная деятельность в «Сеансе», где я на протяжении шести лет вел сайт и социальные сети. Что в это входило? Заказ и редактура текстов, написание к ним лидов…
🔥10🙏7👍2
Треть январских провела с книгой, которая точно войдет в список лучших прочтений 2025 года. Подруги М. и Я. подарили мне объемный путеводитель Москва: Архитектура советского модернизма с шутливым намерением внести в наш дом немного столицы и удержать меня таким образом от слишком частых поездок туда.
За прошедшие несколько лет я действительно иначе прочувствовала Москву, и подарок вышел особенно уместным, потому что думая о ней, воображая любимые места и здания, я вспоминаю не Кремль и Красную площадь, не Старый Арбат, не (только) сталинские высотки и Дом на набережной, а еще — Новый Арбат, юго-запад, район ВДНХ, воткнутые посреди исторической застройки Спиридоновки дома 12 и 18 — розовато-коричневые кирпичные полусвечки конца 1960-х годов. Словом, то, что было придумано и построено во времена оттепели, где предпочитали прозрачность, тонкость линий, непременно — человекоразмерность, особенно, если человек — мечтатель и энтузиаст. Оттепельная архитектура — это взмах крыла, эфемерный след самолёта в небе или хвост ракеты, не зловеще направленной к земной мишени, а миролюбиво устремленной куда-то за облака. Она похожа на оттепельные шрифты — выведенные свободной рукой, с буквами субтильными, хрупкими, как детские фигурки, но упрямо яркими на очищенном белом фоне.
Хотя путеводитель охватывает больший период — вплоть до 1991 года — смысл нового архитектурного этапа все равно определяется оттепельным поворотом к человеку. И потому одни из первых обсуждаемых в книге построек — станция метро Воробьевы горы и Черемушки, флагманский район новой жилой застройки, положивший начало всем знаменитым советским панелькам. В книге подробно разобрано, как продумывались эти новаторские кварталы, открывшие возможность строить так, чтобы беспрецедентное количество семей смогло в короткие сроки обзавестись личным жильем, из роскоши ставшим правом — и такой проект для меня значимее любого дворца. В нем проявляется еще один оттенок удивительной интонации оттепели: обращаться к множеству не как к массе.
Советский модернизм — не парадная архитектура, а то, с чем десятки, сотни тысяч людей будут каждый день иметь дело. Аптеки, ДК, рынки, цирки. Этих построек касаются, в них живут, работают, едят, танцуют, а не охватывают оценивающим взглядом с солидного расстояния. Недаром в книге почти для каждого здания непременно приводятся и фотографии интерьеров — как устроен, например, холл, каков рисунок лестниц, какая проектировалась мебель. Эту утилитарность, обыденность зданиям не могут простить те, кто от архитектуры ждет зрелища.
Авторы путеводителя прекрасно улавливают это пренебрежение, проговаривая во введении, что
Я и сама неоднократно слышала, как манифестируется такая нелюбовь. В сравнении с более визуально насыщенными архитектурными стилями, советский модернизм и правда можно посчитать скучным, неискусным — каким многим покажется, например, Хон Сан-су, поставленный рядом с Вонг Карваем. Но, как по мне, здесь мы очевидно встречаемся не с противопоставлением простого и сложного, посредственного и талантливого, а с двумя разными типами красоты, где первая не декоративна, а органична — она следует за жизнью. Это грация линий, изящество конструкции, ритм пауз и акцентов:
Я так вдохновилась этим чтением, что даже придумала себе маленькое хобби, за которое надеюсь в ближайшее время приняться, чтобы, в том числе, переопределить свои отношения с Петербургом — они, не скрою, в последний год как-то забуксовали.
За прошедшие несколько лет я действительно иначе прочувствовала Москву, и подарок вышел особенно уместным, потому что думая о ней, воображая любимые места и здания, я вспоминаю не Кремль и Красную площадь, не Старый Арбат, не (только) сталинские высотки и Дом на набережной, а еще — Новый Арбат, юго-запад, район ВДНХ, воткнутые посреди исторической застройки Спиридоновки дома 12 и 18 — розовато-коричневые кирпичные полусвечки конца 1960-х годов. Словом, то, что было придумано и построено во времена оттепели, где предпочитали прозрачность, тонкость линий, непременно — человекоразмерность, особенно, если человек — мечтатель и энтузиаст. Оттепельная архитектура — это взмах крыла, эфемерный след самолёта в небе или хвост ракеты, не зловеще направленной к земной мишени, а миролюбиво устремленной куда-то за облака. Она похожа на оттепельные шрифты — выведенные свободной рукой, с буквами субтильными, хрупкими, как детские фигурки, но упрямо яркими на очищенном белом фоне.
Хотя путеводитель охватывает больший период — вплоть до 1991 года — смысл нового архитектурного этапа все равно определяется оттепельным поворотом к человеку. И потому одни из первых обсуждаемых в книге построек — станция метро Воробьевы горы и Черемушки, флагманский район новой жилой застройки, положивший начало всем знаменитым советским панелькам. В книге подробно разобрано, как продумывались эти новаторские кварталы, открывшие возможность строить так, чтобы беспрецедентное количество семей смогло в короткие сроки обзавестись личным жильем, из роскоши ставшим правом — и такой проект для меня значимее любого дворца. В нем проявляется еще один оттенок удивительной интонации оттепели: обращаться к множеству не как к массе.
Советский модернизм — не парадная архитектура, а то, с чем десятки, сотни тысяч людей будут каждый день иметь дело. Аптеки, ДК, рынки, цирки. Этих построек касаются, в них живут, работают, едят, танцуют, а не охватывают оценивающим взглядом с солидного расстояния. Недаром в книге почти для каждого здания непременно приводятся и фотографии интерьеров — как устроен, например, холл, каков рисунок лестниц, какая проектировалась мебель. Эту утилитарность, обыденность зданиям не могут простить те, кто от архитектуры ждет зрелища.
Авторы путеводителя прекрасно улавливают это пренебрежение, проговаривая во введении, что
...их [обычных людей, а не урбанистов и профессиональных архитекторов] неприязнь к архитектуре советского модернизма никуда не делась.
Я и сама неоднократно слышала, как манифестируется такая нелюбовь. В сравнении с более визуально насыщенными архитектурными стилями, советский модернизм и правда можно посчитать скучным, неискусным — каким многим покажется, например, Хон Сан-су, поставленный рядом с Вонг Карваем. Но, как по мне, здесь мы очевидно встречаемся не с противопоставлением простого и сложного, посредственного и талантливого, а с двумя разными типами красоты, где первая не декоративна, а органична — она следует за жизнью. Это грация линий, изящество конструкции, ритм пауз и акцентов:
...[со временем] обнажились те ценности, которые утверждала архитектура советская: простота, чистота, рациональность, открытость, демократичность.И если архитекторы проектируют здание, которое не обязано впечатлять, продуманность необязательных деталей тем более подкупает. Мой любимый пример — жилой дом на пр. Мира, где балконы квартир на главном фасаде размещены шахматкой, так что в солнечный день естественным образом создают теневой орнамент. Или аптека в Орехово-Борисово, воплотившая форму красного креста.
Я так вдохновилась этим чтением, что даже придумала себе маленькое хобби, за которое надеюсь в ближайшее время приняться, чтобы, в том числе, переопределить свои отношения с Петербургом — они, не скрою, в последний год как-то забуксовали.
🔥26❤15👍4❤🔥2