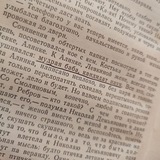Очень неспешно и неохотно выбираюсь из зимней спячки — вместе с коллегами.
Уже завтра, 17 января, в пространстве Doctrina et Nobiles откроется выставка видеоэссе студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Называется изящно — Зримый взгляд. Кураторы: Илья Банников, Нана Апрельская. Работы можно будет посмотреть в галерейном зале до 8 февраля.
Выставку дополняет лекционная программа, в рамках которой мы расскажем о разных аспектах взгляда в контексте искусства. Мое выступление назначено на 24 января. Предложу обсудить свою любимую, главную для меня теоретическую тему — что есть в кино (киноглазе) нечеловеческого? Помянем не только привычного Дзигу Вертова, но также видеоэссе Йоханнеса Бинотто и современные хорроры.
Подробнее о концепции выставки и всех ее мероприятиях читайте здесь.
Зарегистрироваться на мою лекцию можно по ссылке. Приходить лучше пораньше, чтобы посмотреть выставку!
Upd: теперь по ссылке написано, что билеты на лекцию кончились, но я уверена, что ближе к делу они появятся, — кто-то откажется от регистрации.
Уже завтра, 17 января, в пространстве Doctrina et Nobiles откроется выставка видеоэссе студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Называется изящно — Зримый взгляд. Кураторы: Илья Банников, Нана Апрельская. Работы можно будет посмотреть в галерейном зале до 8 февраля.
Выставку дополняет лекционная программа, в рамках которой мы расскажем о разных аспектах взгляда в контексте искусства. Мое выступление назначено на 24 января. Предложу обсудить свою любимую, главную для меня теоретическую тему — что есть в кино (киноглазе) нечеловеческого? Помянем не только привычного Дзигу Вертова, но также видеоэссе Йоханнеса Бинотто и современные хорроры.
Подробнее о концепции выставки и всех ее мероприятиях читайте здесь.
Зарегистрироваться на мою лекцию можно по ссылке. Приходить лучше пораньше, чтобы посмотреть выставку!
Upd: теперь по ссылке написано, что билеты на лекцию кончились, но я уверена, что ближе к делу они появятся, — кто-то откажется от регистрации.
❤37👍1
В рамках борьбы со своей изматывающей амбициозностью признаю пока что лучшим просмотром 2025 года Здесь Баса Девоса — ждала его появления в сети еще полгода назад, но потом о нем вовсе забыла и вспомнила лишь благодаря упоминанию в Машином топе.
Этот фильм замечательно расслаблен — и совершенно лишен двойного дна, в котором за необязательным течением отпускных дней стараешься обнаружить скрытую обеспокоенность. Просто два человека — строитель из Румынии и преподавательница из Китая, волею профессиональных судеб живущие теперь в Бельгии, — случайно сходятся на супно-мшистой теме. Маленькое чудо встречи посреди невероятно уютной в своей тривиальности городской обстановки.
Параллельно наткнулась у Шкловского на забавное замечание, что кино может помочь человеку селекционировать быт: показав, как это выглядит со стороны, научить мелочам — пусть даже правильно надевать пальто.
В этом смысле Здесь особенно рекомендуется к внимательному просмотру тем, кто временами утрачивает чувственную связь со своей повседневностью. Он показывает, как пребывать одному в квартире — освобождать холодильник от старых продуктов и варить суп в красивой кастрюле, как держать в одной руке банку с пивом, а в другой — бутерброд, когда ненадолго задерживаешься с коллегами после рабочего дня, как склоняться над папоротником, изучая зелень в близлежащем лесу, и как легко улыбаться знакомой, к которой поздним вечером заглянул на чай в оставшееся без посетителей кафе.
В общем, не фильм, а art de vivrе, доступное абсолютно каждому.
Этот фильм замечательно расслаблен — и совершенно лишен двойного дна, в котором за необязательным течением отпускных дней стараешься обнаружить скрытую обеспокоенность. Просто два человека — строитель из Румынии и преподавательница из Китая, волею профессиональных судеб живущие теперь в Бельгии, — случайно сходятся на супно-мшистой теме. Маленькое чудо встречи посреди невероятно уютной в своей тривиальности городской обстановки.
Параллельно наткнулась у Шкловского на забавное замечание, что кино может помочь человеку селекционировать быт: показав, как это выглядит со стороны, научить мелочам — пусть даже правильно надевать пальто.
Но у нас не снято, как нужно дышать, как подметать комнату, как мыть посуду, как топить печку...
В этом смысле Здесь особенно рекомендуется к внимательному просмотру тем, кто временами утрачивает чувственную связь со своей повседневностью. Он показывает, как пребывать одному в квартире — освобождать холодильник от старых продуктов и варить суп в красивой кастрюле, как держать в одной руке банку с пивом, а в другой — бутерброд, когда ненадолго задерживаешься с коллегами после рабочего дня, как склоняться над папоротником, изучая зелень в близлежащем лесу, и как легко улыбаться знакомой, к которой поздним вечером заглянул на чай в оставшееся без посетителей кафе.
В общем, не фильм, а art de vivrе, доступное абсолютно каждому.
❤52
Нарушаю правило не частить с постами только в исключительных случаях — и этот такой.
В серии Лица издательства Сеанс теперь уже точно вышла книга Марата Шабаева о Мартине Скорсезе — буквально сегодня раньше срока пришла из типографии и уже выложена не только на сайте, но и, пока эксклюзивно, на прилавках Порядка слов.
Марат, как многие знают, уже много лет занимается кинокритикой, успел написать тексты для пары десятков российских изданий, в качестве редактора выстраивает освещение зарубежного кино на Кинопоиске, и среди всех людей, которых я знаю, по количеству просмотренных за жизнь фильмов у него если не золото, то точно — серебро. Мартин Скорсезе был выбран им не случайно и не ради громкого имени — это действительно один из любимых режиссеров Марата, о котором он писал не раз, но никогда не делал это настолько развернуто и ярко. Скорсезе, каким его видит Марат, — исследователь гангстерской Америки, романтик и реалист, человек, невероятно любящий не только кино, но и свою семью, и снимающий о личном даже там, где это не заметно на первый взгляд.
Разумеется, эту книгу я давно уже прочитала, так что советую ее не только от безусловной любви и к автору, и к герою, а со знанием дела. Хотя, наверное, скажи кто-нибудь мне — маленькой, снова и снова зачарованно пересматривающей Славных парней, — что в будущем я выйду замуж за человека, который первым в России напишет книгу об этом столь важном для меня режиссере, я бы, небось, не поверила, что может такое быть)
P.S. Кстати, у книги будет небольшая презентация в формате просмотра и обсуждения самого личного дока Скорсезе — Итало-американца (1974). Уже можно зарегистрироваться. До встречи в Порядке слов!
В серии Лица издательства Сеанс теперь уже точно вышла книга Марата Шабаева о Мартине Скорсезе — буквально сегодня раньше срока пришла из типографии и уже выложена не только на сайте, но и, пока эксклюзивно, на прилавках Порядка слов.
Марат, как многие знают, уже много лет занимается кинокритикой, успел написать тексты для пары десятков российских изданий, в качестве редактора выстраивает освещение зарубежного кино на Кинопоиске, и среди всех людей, которых я знаю, по количеству просмотренных за жизнь фильмов у него если не золото, то точно — серебро. Мартин Скорсезе был выбран им не случайно и не ради громкого имени — это действительно один из любимых режиссеров Марата, о котором он писал не раз, но никогда не делал это настолько развернуто и ярко. Скорсезе, каким его видит Марат, — исследователь гангстерской Америки, романтик и реалист, человек, невероятно любящий не только кино, но и свою семью, и снимающий о личном даже там, где это не заметно на первый взгляд.
Разумеется, эту книгу я давно уже прочитала, так что советую ее не только от безусловной любви и к автору, и к герою, а со знанием дела. Хотя, наверное, скажи кто-нибудь мне — маленькой, снова и снова зачарованно пересматривающей Славных парней, — что в будущем я выйду замуж за человека, который первым в России напишет книгу об этом столь важном для меня режиссере, я бы, небось, не поверила, что может такое быть)
P.S. Кстати, у книги будет небольшая презентация в формате просмотра и обсуждения самого личного дока Скорсезе — Итало-американца (1974). Уже можно зарегистрироваться. До встречи в Порядке слов!
❤53👍9🔥4❤🔥3👀2
Крайне редко соглашаюсь выступать перед показами, но тут приглашение было очень уж адресным, а фильм — действительно сильно полюбившимся. Так что 7 февраля в 18.50 зову в Дом кино смотреть Снег в моем дворе — новую работу Бакура Бакурадзе.
Билеты можно купить вот здесь (в Петербурге у фильма мало сеансов, идет он всего в двух кинотеатрах, так что за такую возможность и правда лучше хвататься).
Уже писала о фильме здесь и, как и многие российские кинокритики, включила его в список лучших просмотров 2024 года. Впрочем, с новой зрительской волной пришли и более сдержанные отзывы: их вижу, читаю, но не разделяю, возможно — потому что сама склонна к преждевременному старению, так что чувства возрастных, грустных, замкнутых мужчин мне подчас как-то понятнее и ближе современных интонаций сверстников. Ну или потому что Тбилиси у Бакурадзе так же прекрасен, как Кутаиси у Коберидзе — и, действительно, можно несколько часов просто его рассматривать, греться возле экрана, как у камина.
Перед показом поговорю о естественном отшельничестве и о том, зачем дружить, кто такой старый друг и как в дружбе мы друг друга используем.
Билеты можно купить вот здесь (в Петербурге у фильма мало сеансов, идет он всего в двух кинотеатрах, так что за такую возможность и правда лучше хвататься).
Уже писала о фильме здесь и, как и многие российские кинокритики, включила его в список лучших просмотров 2024 года. Впрочем, с новой зрительской волной пришли и более сдержанные отзывы: их вижу, читаю, но не разделяю, возможно — потому что сама склонна к преждевременному старению, так что чувства возрастных, грустных, замкнутых мужчин мне подчас как-то понятнее и ближе современных интонаций сверстников. Ну или потому что Тбилиси у Бакурадзе так же прекрасен, как Кутаиси у Коберидзе — и, действительно, можно несколько часов просто его рассматривать, греться возле экрана, как у камина.
Перед показом поговорю о естественном отшельничестве и о том, зачем дружить, кто такой старый друг и как в дружбе мы друг друга используем.
❤39❤🔥9👏2🫡2👀1
Неожиданно много Пола Шредера образовалось у меня в жизни в последнюю неделю: посмотрела О, Канада, редактор посоветовал упомянуть в статье Хардкор, наконец села читать переиздание Трансцендентального стиля.
Больше основного текста, который уж слишком хорошо знаком во фрагментах и пересказах, захватило предисловие к новому изданию. Хотя в большинстве концептуальных моментов мне Шредер не очень близок (например, совсем по-другому вижу позицию зрителя медленного кино, а живой интерес к имманентному совершенно точно предпочитаю рассуждениям о соприкосновении с трансцендентным), поражаюсь его осведомленности о самом разном кинематографе. Давно замечено, что для многих голливудских режиссеров (и даже критиков, теоретиков) вообще не существует никакого кино, кроме а) игрового б) американского — по крайней мере, после окончания киношколы. Но Шредер, которому сейчас 78 лет, в курсе авангардных практик (цитирует даже не Уорхола, а Натаниэля Дорски) и знает, как снимают, например, Ван Бин, Цзя Чжанке, Лисандро Алонсо и Микеланджело Фраммартино. Дело не в том, что эти режиссеры чем-то важнее более популярных, просто обращение к такому количеству имен демонстрирует широту интересов, любопытство к разному, даже совсем не схожему с твоим. В общем, приятно удивляешься, что Шредер на восьмом десятке формулирует что-то противоположное унылым пенсионерским сентенциям о смерти кино и его безвозвратно утраченном золотом веке.
Еще подумала, как интересно, что Шредер написал Трансцендентальный стиль в очень юном, почти шеллинговском возрасте (в 1972 году ему было 25-26 лет) и, видимо, как-то за раз высказался обо всех теоретических вопросах, которые искренне беспокоят человека в академический период — когда ты почти ничего не делаешь, но очень много думаешь. Затем до следующего рефлексивного периода — старости — эти темы были отложены, а их место заняла динамичная жизнь, авантюрная работа: драйвовые сценарии и фильмы о суровых мужчинах-мстителях, синих воротничках и одержимых зверушками женщинах. Такой внутренней свободе, такому легкому скольжению от стиля к стилю, нежеланию ограничивать себя работой в одном амплуа — завидую.
А последний фильм Шредера, кстати, совсем не удался (может, кроме финального кадра) — мелодраматичен до неловкости, тавтологичен, нелеп в большинстве визуальных приемов, чудовищно монотонен. После режиссерских удач последних лет — удивительно. Все еще забавляет, что он регулярно включает собственные работы в личные списки лучших фильмов года. Не верится, что О, Канада тоже окажется там — как будто суровый Шредер-критик должен все-таки проявить строгость и к Шредеру-режиссеру.
Больше основного текста, который уж слишком хорошо знаком во фрагментах и пересказах, захватило предисловие к новому изданию. Хотя в большинстве концептуальных моментов мне Шредер не очень близок (например, совсем по-другому вижу позицию зрителя медленного кино, а живой интерес к имманентному совершенно точно предпочитаю рассуждениям о соприкосновении с трансцендентным), поражаюсь его осведомленности о самом разном кинематографе. Давно замечено, что для многих голливудских режиссеров (и даже критиков, теоретиков) вообще не существует никакого кино, кроме а) игрового б) американского — по крайней мере, после окончания киношколы. Но Шредер, которому сейчас 78 лет, в курсе авангардных практик (цитирует даже не Уорхола, а Натаниэля Дорски) и знает, как снимают, например, Ван Бин, Цзя Чжанке, Лисандро Алонсо и Микеланджело Фраммартино. Дело не в том, что эти режиссеры чем-то важнее более популярных, просто обращение к такому количеству имен демонстрирует широту интересов, любопытство к разному, даже совсем не схожему с твоим. В общем, приятно удивляешься, что Шредер на восьмом десятке формулирует что-то противоположное унылым пенсионерским сентенциям о смерти кино и его безвозвратно утраченном золотом веке.
Еще подумала, как интересно, что Шредер написал Трансцендентальный стиль в очень юном, почти шеллинговском возрасте (в 1972 году ему было 25-26 лет) и, видимо, как-то за раз высказался обо всех теоретических вопросах, которые искренне беспокоят человека в академический период — когда ты почти ничего не делаешь, но очень много думаешь. Затем до следующего рефлексивного периода — старости — эти темы были отложены, а их место заняла динамичная жизнь, авантюрная работа: драйвовые сценарии и фильмы о суровых мужчинах-мстителях, синих воротничках и одержимых зверушками женщинах. Такой внутренней свободе, такому легкому скольжению от стиля к стилю, нежеланию ограничивать себя работой в одном амплуа — завидую.
А последний фильм Шредера, кстати, совсем не удался (может, кроме финального кадра) — мелодраматичен до неловкости, тавтологичен, нелеп в большинстве визуальных приемов, чудовищно монотонен. После режиссерских удач последних лет — удивительно. Все еще забавляет, что он регулярно включает собственные работы в личные списки лучших фильмов года. Не верится, что О, Канада тоже окажется там — как будто суровый Шредер-критик должен все-таки проявить строгость и к Шредеру-режиссеру.
❤27👍6👎1
Я тут уже не первый раз порываюсь рассказать, как увлеклась в последний год советской литературой, и описать, что такого важного в ней для себя нахожу, но чувствую, что для отдельных наблюдений нужен какой-то контекст. Поэтому начну разворачивать эту тему сильно издалека — с признания в том, насколько плохо я до сих пор ориентировалась в этом поле.
Отчего-то в школе все интригующие тексты из курса литературы заканчивались Серебряным веком, а в университете новый интерес к прозе прежде всего уводил за границу. Были, конечно, отдельные авторы — Булгаков, Маяковский, Довлатов, Битов, Ерофеев, Сорокин — которые обаяли раньше, без погружения в контекст, но это острова, одиночки. Проблема в том, что долгое время у меня не существовало никакого представления о советской литературе как комплексном, сложносоставном явлении — в котором есть писательские организации и толстые журналы, сам- и тамиздат, большая и малая проза, поэзия, публицистика, писатели с премиями, писатели андеграундные, писатели-эмигранты и писатели-арестанты. Но главное: вопреки различиям в судьбах и опытах, есть у всех этих литераторов разделенная реальность, которую каждый пытается освоить, описать, пересобрать и пересочинить, не утрачивая, между тем, с ней связи. Более того, эта связь ощущается как важнейший оттенок любого частного высказывания: герой советской литературы похож на сейсмограф — всегда чуток к тому, что происходит вокруг. Персонаж начала пятидесятых, даже без оглядки на личные обстоятельства, не будет равен себе в конце того же десятилетия — что уж говорить о героях разных поколений.
На судьбы отдельных людей, как шрамы, наносятся резкие скачки эпох (они в России, видимо, обречены быть только такими). И тут проявляется одно из качеств советской литературы, которое страшно меня увлекает: писателям часто интересен не герой времени, которое ему совершенно впору, а человек на сгибе, в складке, в катаклизме — этими временами сжатый. Безыдейная сиротка учится жить своей жизнью, участвуя в коллективной стройке двадцатых (Наши знакомые), идеалиста первого постреволюционного десятилетия ломает реальность второго (Крутой маршрут, Дети Арбата), мечтательный шестидесятник не уживается с мещанским благополучием брежневской эпохи (Юрий Трифонов, Владимир Маканин).
Такое понимание отношений между человеком и его страной, его эпохой, очень чутко в одном интервью сформулировала Генриетта Яновская, высказываясь уже о девяностых:
Пожалуй, это характерное для советского искусства переживание создавало раньше ложное представление о каком-то его искусственно коллективистском духе. Но пусть персонажи действительно демонстрируют обусловленность своего характера временем, едва ли здесь уместно говорить об унификации. Напротив: одни и те же обстоятельства рождают разные характеры, это даже можно счесть за типичный для советской литературы прием — противоречия становится заметнее в чем-то подчеркнуто гомогенном. У Анатолия Рыбакова судьбы молодых людей из переулков Арбата от одного удара разлетаются в разные стороны, как осколки разбитой вазы; Иду на грозу Даниила Гранина — это десяток портретов ученых-физиков оттепельной эпохи; В круге первом Солженицына – опись ни в чем не схожих мировоззрений, тем не менее выложенных на нарах в ряд.
В общем, последние пару лет я самостоятельно веду беседы со всеми этими советскими общностями и различиями, людьми и эпохами, идеалистами и прагматиками, романтиками и мещанами, этиками и политиками, физиками и лириками — и горизонт чтения, к счастью, все еще не просматривается. Надеюсь научиться лаконично, но своевременно оставлять заметки о конкретных прочтениях, но пока что могу поделиться только таким обобщением — и цитатами, вдруг уже они сами по себе кого-нибудь увлекут интонационным разнообразием.
Отчего-то в школе все интригующие тексты из курса литературы заканчивались Серебряным веком, а в университете новый интерес к прозе прежде всего уводил за границу. Были, конечно, отдельные авторы — Булгаков, Маяковский, Довлатов, Битов, Ерофеев, Сорокин — которые обаяли раньше, без погружения в контекст, но это острова, одиночки. Проблема в том, что долгое время у меня не существовало никакого представления о советской литературе как комплексном, сложносоставном явлении — в котором есть писательские организации и толстые журналы, сам- и тамиздат, большая и малая проза, поэзия, публицистика, писатели с премиями, писатели андеграундные, писатели-эмигранты и писатели-арестанты. Но главное: вопреки различиям в судьбах и опытах, есть у всех этих литераторов разделенная реальность, которую каждый пытается освоить, описать, пересобрать и пересочинить, не утрачивая, между тем, с ней связи. Более того, эта связь ощущается как важнейший оттенок любого частного высказывания: герой советской литературы похож на сейсмограф — всегда чуток к тому, что происходит вокруг. Персонаж начала пятидесятых, даже без оглядки на личные обстоятельства, не будет равен себе в конце того же десятилетия — что уж говорить о героях разных поколений.
На судьбы отдельных людей, как шрамы, наносятся резкие скачки эпох (они в России, видимо, обречены быть только такими). И тут проявляется одно из качеств советской литературы, которое страшно меня увлекает: писателям часто интересен не герой времени, которое ему совершенно впору, а человек на сгибе, в складке, в катаклизме — этими временами сжатый. Безыдейная сиротка учится жить своей жизнью, участвуя в коллективной стройке двадцатых (Наши знакомые), идеалиста первого постреволюционного десятилетия ломает реальность второго (Крутой маршрут, Дети Арбата), мечтательный шестидесятник не уживается с мещанским благополучием брежневской эпохи (Юрий Трифонов, Владимир Маканин).
Такое понимание отношений между человеком и его страной, его эпохой, очень чутко в одном интервью сформулировала Генриетта Яновская, высказываясь уже о девяностых:
«Я отношусь к тому поколению, для которого события в стране являются также и событиями в частной жизни».
Пожалуй, это характерное для советского искусства переживание создавало раньше ложное представление о каком-то его искусственно коллективистском духе. Но пусть персонажи действительно демонстрируют обусловленность своего характера временем, едва ли здесь уместно говорить об унификации. Напротив: одни и те же обстоятельства рождают разные характеры, это даже можно счесть за типичный для советской литературы прием — противоречия становится заметнее в чем-то подчеркнуто гомогенном. У Анатолия Рыбакова судьбы молодых людей из переулков Арбата от одного удара разлетаются в разные стороны, как осколки разбитой вазы; Иду на грозу Даниила Гранина — это десяток портретов ученых-физиков оттепельной эпохи; В круге первом Солженицына – опись ни в чем не схожих мировоззрений, тем не менее выложенных на нарах в ряд.
В общем, последние пару лет я самостоятельно веду беседы со всеми этими советскими общностями и различиями, людьми и эпохами, идеалистами и прагматиками, романтиками и мещанами, этиками и политиками, физиками и лириками — и горизонт чтения, к счастью, все еще не просматривается. Надеюсь научиться лаконично, но своевременно оставлять заметки о конкретных прочтениях, но пока что могу поделиться только таким обобщением — и цитатами, вдруг уже они сами по себе кого-нибудь увлекут интонационным разнообразием.
❤31👍6❤🔥2🔥1
Владимир Маканин, Один и одна
Юрий Герман, Наши знакомые
Василий Аксенов, Звездный билет
Юрий Герман, Наши знакомые
Василий Аксенов, Звездный билет
❤35❤🔥3
На сайте журнала Новое литературное обозрение выложили дебютный номер 2025 года -- и в нём моя первая за долгое время научная статья, написанная по приглашению Андрея Фоменко (кстати, советую подписаться на его канал про искусство и музейные практики!).
Я вообще очень редко пишу тексты в научные журналы: какие-то новые и стоящие идеи раз в год в голову не приходят, делать что-то для отчётности мне не нужно, тасовать всем известные понятия не интересно. Но в этом случае давно была придумана тема, которая именно требовала фиксации теоретического концепта. Его, как своего рода изобретение, сначала хотелось предложить исследовательскому сообществу, а уже потом двигать дальше.
Предлагаю подумать об экстрафильмическом -- элементах и практиках, которые всегда сопровождают наш просмотр фильма, но не принадлежат ему, а привносятся процессом демонстрации: ставятся рядом, наносятся поверх. В частности, меня интересовало, как такие элементы помогают определить специфику просмотра, насытить его локальным контекстом. Проще говоря: можно думать, что в любое время и в любом месте мы смотрим один и тот же фильм, но в реальности мы всегда имеем дело с какой-то особенной конфигурацией внешних к нему факторов, влияющих, тем не менее, на опыт, который нам запоминается. Из повторяемости одной такой конфигурации вырастают со временем практики просмотра, которые могут быть не только частным случаем, но даже определить эпоху -- придать ей узнаваемый характер. Так, например, было с одноголосыми переводами в позднем СССР и России 90-х. И сейчас, предположу, мы имеем дело с формированием столь же уникального набора экстрафильмических элементов, по которым, спустя время, историки будут опознавать наше время -- например, курьезное предсеансовое обслуживание, блюры, чёрные экраны с предупредительными титрами о вырезанных минутах и так далее. Обо всём этом подробно пишу в статье, ссылаясь на Тарантино, Лору Маркс и Жерара Женетта.
Тема только заявлена, буду счастлива, если на неё откликнутся другие исследователи. Полный текст можно прочитать здесь.
Я вообще очень редко пишу тексты в научные журналы: какие-то новые и стоящие идеи раз в год в голову не приходят, делать что-то для отчётности мне не нужно, тасовать всем известные понятия не интересно. Но в этом случае давно была придумана тема, которая именно требовала фиксации теоретического концепта. Его, как своего рода изобретение, сначала хотелось предложить исследовательскому сообществу, а уже потом двигать дальше.
Предлагаю подумать об экстрафильмическом -- элементах и практиках, которые всегда сопровождают наш просмотр фильма, но не принадлежат ему, а привносятся процессом демонстрации: ставятся рядом, наносятся поверх. В частности, меня интересовало, как такие элементы помогают определить специфику просмотра, насытить его локальным контекстом. Проще говоря: можно думать, что в любое время и в любом месте мы смотрим один и тот же фильм, но в реальности мы всегда имеем дело с какой-то особенной конфигурацией внешних к нему факторов, влияющих, тем не менее, на опыт, который нам запоминается. Из повторяемости одной такой конфигурации вырастают со временем практики просмотра, которые могут быть не только частным случаем, но даже определить эпоху -- придать ей узнаваемый характер. Так, например, было с одноголосыми переводами в позднем СССР и России 90-х. И сейчас, предположу, мы имеем дело с формированием столь же уникального набора экстрафильмических элементов, по которым, спустя время, историки будут опознавать наше время -- например, курьезное предсеансовое обслуживание, блюры, чёрные экраны с предупредительными титрами о вырезанных минутах и так далее. Обо всём этом подробно пишу в статье, ссылаясь на Тарантино, Лору Маркс и Жерара Женетта.
Тема только заявлена, буду счастлива, если на неё откликнутся другие исследователи. Полный текст можно прочитать здесь.
🔥29❤20👍5
2 марта еду в Москву читать в Лектории музея Гараж лекцию про Ван Бина!
После долгого перерыва коллеги возобновляют уникальную программу Счастливый час, в рамках которой зрители смотрят ультрадлинные фильмы. Её первый уик-энд будет совершенно эксклюзивным: показывают самую новую работу Ван Бина — трилогию Молодость. За выходные можно посмотреть все три части, а между второй и третьей я расскажу, как фильмы Ван Бина существуют сами по себе и, вместе с тем, резонируют с мировой документалистикой.
Первым делом вспоминают вызывающую продолжительность его неспешных фильмов — они длятся три, шесть, девять, пятнадцать часов. Следом — обсуждают проявившийся в них образ китайского рабочего, все время пребывающего в состоянии транзита: в угасающих и процветающих промышленных районах, в больших городах и слабо урбанизированных провинциях он строит убежища, роет подземные туннели, передвигается обходными путями, рассекает пустыни поперек или движется вперед по размеченным трассам. Ван Бин наблюдает за всеми сразу и по отдельности. Он молчалив, но терпелив и чуток, как видеорегистратор.
И за приглашение, и за программу в целом огромное спасибо замечательной кураторке Алисе Насртдиновой.
Вот здесь можно прочитать подробнее про показы и лекцию, купить билеты, зарегистрироваться.
Приходите! Отличная и редкая возможность увидеться лично)
После долгого перерыва коллеги возобновляют уникальную программу Счастливый час, в рамках которой зрители смотрят ультрадлинные фильмы. Её первый уик-энд будет совершенно эксклюзивным: показывают самую новую работу Ван Бина — трилогию Молодость. За выходные можно посмотреть все три части, а между второй и третьей я расскажу, как фильмы Ван Бина существуют сами по себе и, вместе с тем, резонируют с мировой документалистикой.
Первым делом вспоминают вызывающую продолжительность его неспешных фильмов — они длятся три, шесть, девять, пятнадцать часов. Следом — обсуждают проявившийся в них образ китайского рабочего, все время пребывающего в состоянии транзита: в угасающих и процветающих промышленных районах, в больших городах и слабо урбанизированных провинциях он строит убежища, роет подземные туннели, передвигается обходными путями, рассекает пустыни поперек или движется вперед по размеченным трассам. Ван Бин наблюдает за всеми сразу и по отдельности. Он молчалив, но терпелив и чуток, как видеорегистратор.
И за приглашение, и за программу в целом огромное спасибо замечательной кураторке Алисе Насртдиновой.
Вот здесь можно прочитать подробнее про показы и лекцию, купить билеты, зарегистрироваться.
Приходите! Отличная и редкая возможность увидеться лично)
❤41❤🔥10👍2🤯1
Ровно год назад, 27 февраля, я учредила теплую традицию: публично поздравлять с Днем рождения папу, рассказывая о каком-нибудь жизненном ориентире, который он, желая того или нет, предложил мне в детстве.
Недавно вспомнилось вот такое.
Хотя мы всегда были семьей, где разговоры предпочитают другому досугу, на особенно массовых праздниках, куда съезжалось много родных, рано или поздно наступал час танцев. Сейчас это кажется даже милым, но тогда мне, ребенку-подростку, смотреть на подвыпивших взрослых, внезапно решивших пуститься в малохарактерный для себя пляс, было скорее неловко. Но танцевать шли все — кроме папы. Он невозмутимо оставался за столом, ироничным прищуром отклонял приглашения выйти в круг, так что все обвинения в некомпанейскости проходили сквозь. Я сидела всегда рядом с ним, с самого детства чувствуя, что мы делим друг с другом нечто большее, чем нелюбовь к танцам, — инстинктивное нежелание присоединяться к большинству.
Впрочем, со временем эта максима трансформировалась во что-то чуть более тонкое. Потанцевать бывает приятно, а идти всегда с большинством вразрез не может быть самоцелью. Скорее, суть в том, что если уж случается с ним не сойтись, переживать об этом не стоит: пребывания в меньшинстве, даже в одиночестве не нужно бояться или стыдиться — его надо принимать стойко, спокойно, с достоинством.
И снова:
Ты, пап, из тех счастливых отцов, которых безмерно любят дочери. С Днем рождения 🤍
Недавно вспомнилось вот такое.
Хотя мы всегда были семьей, где разговоры предпочитают другому досугу, на особенно массовых праздниках, куда съезжалось много родных, рано или поздно наступал час танцев. Сейчас это кажется даже милым, но тогда мне, ребенку-подростку, смотреть на подвыпивших взрослых, внезапно решивших пуститься в малохарактерный для себя пляс, было скорее неловко. Но танцевать шли все — кроме папы. Он невозмутимо оставался за столом, ироничным прищуром отклонял приглашения выйти в круг, так что все обвинения в некомпанейскости проходили сквозь. Я сидела всегда рядом с ним, с самого детства чувствуя, что мы делим друг с другом нечто большее, чем нелюбовь к танцам, — инстинктивное нежелание присоединяться к большинству.
Впрочем, со временем эта максима трансформировалась во что-то чуть более тонкое. Потанцевать бывает приятно, а идти всегда с большинством вразрез не может быть самоцелью. Скорее, суть в том, что если уж случается с ним не сойтись, переживать об этом не стоит: пребывания в меньшинстве, даже в одиночестве не нужно бояться или стыдиться — его надо принимать стойко, спокойно, с достоинством.
И снова:
Ты, пап, из тех счастливых отцов, которых безмерно любят дочери. С Днем рождения 🤍
❤103❤🔥25👍9🕊4
Коллекция переизданий теоретических работ о кино продолжает пополняться — недавно издательство Ad Marginem выпустило очередной сборник эссе Ролана Барта. В него вошли и тексты, уже выходившие на русском и выученные исследователями кино и фотографии практически наизусть — Третий смысл, Фотографическое сообщение, Риторика образа, и впервые переведенные эссе о конкретных художниках, живописи, музыке.
Удивительно — ведь Барт считается философом видимого и читаемого — но для меня самым интригующим разделом оказался тот, что посвящен звуку. Я читала и даже цитировала в одном из текстов эссе Зерно голоса, но тут у него появляется удачное соседство, контекст. Оказывается, например. что у Барта была своя классификация типов слушания, несколько отличная от той, которая уже стала считаться очевидной благодаря текстам Мишеля Шиона (эссе Слушание).
И, конечно, каким бы ни был предмет размышления, письмо Барта всегда полно образов и описаний, застревающих в памяти фрагментом, который не нуждается ни в каком контексте:
Сколько видеоэссе о взглядах можно сделать, оттолкнувшись от этого фрагмента.
К слову, как-то особенно приятно советовать книгу, редактором которой выступил Сергей Фокин: даже странно сейчас вспоминать, что у этого замечательного переводчика, исследователя французской культуры и невероятно обаятельного человека мне удалось поучиться, пусть даже в формате одного курса — так давно это, кажется, было.
P/S. Заглянула на сайт и увидела, что недавно переиздали дневники Сонтаг, в том числе их первую часть — Заново рожденная. В свое время не успела купить ее в пару к Сознанию, прикованному к плоти, поэтому поспешила заказать сейчас. Если в вашей библиотеке этих текстов тоже не хватает, не пропустите!
Удивительно — ведь Барт считается философом видимого и читаемого — но для меня самым интригующим разделом оказался тот, что посвящен звуку. Я читала и даже цитировала в одном из текстов эссе Зерно голоса, но тут у него появляется удачное соседство, контекст. Оказывается, например. что у Барта была своя классификация типов слушания, несколько отличная от той, которая уже стала считаться очевидной благодаря текстам Мишеля Шиона (эссе Слушание).
И, конечно, каким бы ни был предмет размышления, письмо Барта всегда полно образов и описаний, застревающих в памяти фрагментом, который не нуждается ни в каком контексте:
...гуляя по марокканскому базару и глядя на продавца кустарных изделий, я прекрасно вижу, что этот продавец прочитывает в моем взгляде лишь взгляд возможного покупателя, ибо, как и клещ, он видит в гуляющих лишь людей одного рода, участников коммерческой сделки. Но если мой взгляд будет настаивать (сколько дополнительных секунд? это интересная семантическая задача), его прочтение сразу же пошатнется: а вдруг я интересуюсь им самим, а не его товаром? Вдруг я вышел из первого кода (коммерческой сделки) и вошел во второй (сообщничества)? Это трение двух кодов я в свою очередь читаю в его взгляде. Всё это создает муаровую переливчатость последовательных смыслов. И для семантика — пусть даже всего лишь гуляющего по базару — нет ничего более возбуждающего, чем видеть в чьем-то взгляде безмолвное распускание смысла.
Сколько видеоэссе о взглядах можно сделать, оттолкнувшись от этого фрагмента.
К слову, как-то особенно приятно советовать книгу, редактором которой выступил Сергей Фокин: даже странно сейчас вспоминать, что у этого замечательного переводчика, исследователя французской культуры и невероятно обаятельного человека мне удалось поучиться, пусть даже в формате одного курса — так давно это, кажется, было.
P/S. Заглянула на сайт и увидела, что недавно переиздали дневники Сонтаг, в том числе их первую часть — Заново рожденная. В свое время не успела купить ее в пару к Сознанию, прикованному к плоти, поэтому поспешила заказать сейчас. Если в вашей библиотеке этих текстов тоже не хватает, не пропустите!
❤29👍11🔥3