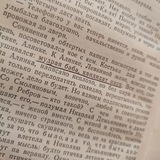Я к вам еще с одним приглашением!
6 ноября в 19.30 в любимом книжном Порядок слов пройдет презентация нашей книжки Советские двадцатые: искусство, архитектура, фотография, кино. Все авторы обещали быть, так что, если вы соскучились по мне или, например, по Андрею Фоменко, Алексею Бобрикову, Ивану Саблину, — приходите!
Мне всегда сложно с форматом книжных презентаций, но, думаю, сможем кратко рассказать, о чем каждый из нас написал, а еще — обсудить, почему спустя век искусство 1920-х годов, как и размышления о нем, все еще остается очень беспокоящим. Специально прочитала к встрече нашу книгу целиком, чтобы задавать коллегам вопросы)
Вход бесплатный, по регистрации.
6 ноября в 19.30 в любимом книжном Порядок слов пройдет презентация нашей книжки Советские двадцатые: искусство, архитектура, фотография, кино. Все авторы обещали быть, так что, если вы соскучились по мне или, например, по Андрею Фоменко, Алексею Бобрикову, Ивану Саблину, — приходите!
Мне всегда сложно с форматом книжных презентаций, но, думаю, сможем кратко рассказать, о чем каждый из нас написал, а еще — обсудить, почему спустя век искусство 1920-х годов, как и размышления о нем, все еще остается очень беспокоящим. Специально прочитала к встрече нашу книгу целиком, чтобы задавать коллегам вопросы)
Вход бесплатный, по регистрации.
👍19❤8❤🔥4
Посмотрели Оппенгеймера. В кино пропустили не от нелюбви к пиратству, а потому, что знакомиться с трехчасовым диалоговым фильмом в дубляже совсем не хотелось. Из медийного сражения с Барби работа Нолана, как по мне, явно вышла победителем, но все же, скорее, от слабости ленты Гервиг. Не сказать, что Оппенгеймер совсем никуда не годится (а уж в сравнении с многими другими фильмами Нолана вышло и вовсе достойно), но...
Ладно, сначала о хорошем. Симпатично выглядит срединная часть — все, что связано с Манхэттенским проектом и реакцией команды ученых на бомбежку Японии. Понравилась эффектная сцена, где Оппенгеймер произносит победительную речь, а потом немеет под всеобщее ликование, которое в его восприятии быстро начинает превращаться в фантомные рыдания. Но два часа, которые эту середину обрамляют, дались с трудом. Во многом из-за того, что Нолану критики записывают в достоинство — короткий (типа экспериментальный) монтаж и сбитый таймлайн, из-за которых мне (а я не особо знакома с биографией Оппенгеймера) было трудно понять, что происходит, а замечательному Киллиану Мерфи — сделать видимой трансформацию своего персонажа, хотя для байопика, да еще и про такую противоречивую личность, это как будто важно. В середине Нолан от этих приемов как раз отказывается — структурно образуется что-то вроде воронки, события, спокойно разворачиваясь друг за другом, скручиваются в тугую спираль с эффектной кульминацией. Другие же части, несмотря на показную динамичность, ужасно монотонны, да еще и, торопясь, все подряд упрощают, превращая интересные линии исторического контекста в набор никуда не ведущих тэгов.
Вот, например, сообщают в какой-то момент, что одним из справедливых судей на слушании оказался некий сенатор по фамилии Кеннеди (у них, рассказал Марат, прочитавший биографию Оппенгеймера, в реальности были довольно интересные отношения) — и на этом все. Выглядит, будто нужно было просто подмигнуть американскому зрителю, дескать, вот, смотрите, наш любимый президент — уже тогда славный парень, надеемся, вы не забыли.
Политических упрощений тоже полно. Уже который раз замечаю, что когда в голливудских фильмах критикуется маккартизм, речь идет не о том, что несправедливо преследовать людей по политическим взглядам, а о том, что многих преследовали несправедливо, ведь они не были коммунистами.
Отдельный кринж — сексуальная сцена между Оппенгеймером и героиней Флоренс Пью (как ее зовут, простите, не запомнила, ведь в иных качествах она в фильме, считай, не фигурирует) под чтение сакральных текстов на санскрите... Ну, положим, пошлости в фильмах Нолана удивляться как-то не принято, и не сюрприз, что тут ее тоже в избытке. Есть, например, Эйнштейн — бородатый мудрец, с которым главный герой ведет смысложизненный разговор на берегу озера. Куча кадров и фраз, которые одни разберут на мемы, вторые — в 2000-е поставили бы как статус в vk.
В дискуссии с Маратом набрели на интересную, впрочем, идею. Будто бы пошлость Нолана как режиссера здесь могла любопытно срезонировать с самим Оппенгеймером, которого современники вспоминали человеком не в меру пафосным. И в фильме даже есть пара моментов, где можно что-то подобное заподозрить. Например, отличный диалог ученого с президентом. Первый говорит с придыханием: я чувствую, что на моих руках кровь. А второй иронично протягивает белый платок, но просит не думать о себе слишком много, потому что приказ о бомбежках отдал не он. На те же мысли наводит монолог главного завистника и оппонента — Льюиса Штрауса, который замечает, что Оппенгеймер, возможно, получает своеобразное удовольствие от позы кающегося грешника и мученика. Я слишком мало знаю о главном герое, чтобы делать какие-то заключения о его характере, но мысль не сводить все пафосные или банальные элементы фильма исключительно к недостаткам нолановской режиссуры — мне нравится.
Не хочется, в тон фильму, заканчивать текст очевидным выводом, так обойдемся сегодня без него.
Ладно, сначала о хорошем. Симпатично выглядит срединная часть — все, что связано с Манхэттенским проектом и реакцией команды ученых на бомбежку Японии. Понравилась эффектная сцена, где Оппенгеймер произносит победительную речь, а потом немеет под всеобщее ликование, которое в его восприятии быстро начинает превращаться в фантомные рыдания. Но два часа, которые эту середину обрамляют, дались с трудом. Во многом из-за того, что Нолану критики записывают в достоинство — короткий (типа экспериментальный) монтаж и сбитый таймлайн, из-за которых мне (а я не особо знакома с биографией Оппенгеймера) было трудно понять, что происходит, а замечательному Киллиану Мерфи — сделать видимой трансформацию своего персонажа, хотя для байопика, да еще и про такую противоречивую личность, это как будто важно. В середине Нолан от этих приемов как раз отказывается — структурно образуется что-то вроде воронки, события, спокойно разворачиваясь друг за другом, скручиваются в тугую спираль с эффектной кульминацией. Другие же части, несмотря на показную динамичность, ужасно монотонны, да еще и, торопясь, все подряд упрощают, превращая интересные линии исторического контекста в набор никуда не ведущих тэгов.
Вот, например, сообщают в какой-то момент, что одним из справедливых судей на слушании оказался некий сенатор по фамилии Кеннеди (у них, рассказал Марат, прочитавший биографию Оппенгеймера, в реальности были довольно интересные отношения) — и на этом все. Выглядит, будто нужно было просто подмигнуть американскому зрителю, дескать, вот, смотрите, наш любимый президент — уже тогда славный парень, надеемся, вы не забыли.
Политических упрощений тоже полно. Уже который раз замечаю, что когда в голливудских фильмах критикуется маккартизм, речь идет не о том, что несправедливо преследовать людей по политическим взглядам, а о том, что многих преследовали несправедливо, ведь они не были коммунистами.
Отдельный кринж — сексуальная сцена между Оппенгеймером и героиней Флоренс Пью (как ее зовут, простите, не запомнила, ведь в иных качествах она в фильме, считай, не фигурирует) под чтение сакральных текстов на санскрите... Ну, положим, пошлости в фильмах Нолана удивляться как-то не принято, и не сюрприз, что тут ее тоже в избытке. Есть, например, Эйнштейн — бородатый мудрец, с которым главный герой ведет смысложизненный разговор на берегу озера. Куча кадров и фраз, которые одни разберут на мемы, вторые — в 2000-е поставили бы как статус в vk.
В дискуссии с Маратом набрели на интересную, впрочем, идею. Будто бы пошлость Нолана как режиссера здесь могла любопытно срезонировать с самим Оппенгеймером, которого современники вспоминали человеком не в меру пафосным. И в фильме даже есть пара моментов, где можно что-то подобное заподозрить. Например, отличный диалог ученого с президентом. Первый говорит с придыханием: я чувствую, что на моих руках кровь. А второй иронично протягивает белый платок, но просит не думать о себе слишком много, потому что приказ о бомбежках отдал не он. На те же мысли наводит монолог главного завистника и оппонента — Льюиса Штрауса, который замечает, что Оппенгеймер, возможно, получает своеобразное удовольствие от позы кающегося грешника и мученика. Я слишком мало знаю о главном герое, чтобы делать какие-то заключения о его характере, но мысль не сводить все пафосные или банальные элементы фильма исключительно к недостаткам нолановской режиссуры — мне нравится.
Не хочется, в тон фильму, заканчивать текст очевидным выводом, так обойдемся сегодня без него.
❤30🤔9😐5👍2🔥2🤡2🐳2
Немного о новинках:
Убийца
В пятницу еле заставила себя отправиться на лекции, потому что ужасно хотелось вместо этого поскорее приняться за последний фильм Финчера. У меня не так много режиссеров, новые ленты которых я не просто жду, а буквально брежу желанием немедленно увидеть. Раньше были такие случаи с Ирландцем Скорсезе и Брачной историей Баумбаха — когда летишь с работы домой и думаешь вот-вот-вот (а вы с чем такое переживали?). Любовь к Финчеру превращается в проблему — фильмы получается сравнивать только с его предыдущими. И поскольку превзойти Исчезнувшую, Зодиак, Социальную сеть, Девушку с татуировкой дракона — это мой личный топ — непросто, в просмотр неминуемо замешивается нотка разочарования. Для Убийцы лучший эпитет — английское слово classy, которое на русский переводится слишком многословно. По ощущениям, это не просто стильный, но и мастеровитый, элегантный, знающий себе цену. Финчер здесь жертвует триллерной эффектностью (в которой, как по мне, ему нет равных со времен Хичкока и которую лично я всегда жду от него в первую очередь) в пользу очень холодной, схематичной конструкции — чуть-чуть уже тронутой маньеризмом. Сбавляя темп, он становится больше похожим не на себя, а на позднего Шредера (ну или на мельвильевского Самурая — эта параллель на поверхности). Хотя моим личным ожиданиям такая перемена интонации не соответствует, сложно не признать, что Финчер-режиссер остается виртуозным дирижером — хоть и сократившим вдвое-втрое количество музыкантов в оркестре в погоне за чистотой исполнения. Еще, на контрасте с недавним просмотром Нолана, отметила, что вот здесь пафос не утомляет, потому что все время оборачивается юмором и самоиронией — это, например, про несоответствия между закадровым голосом и происходящим в кадре. Ну и, что скрывать, приятно было послушать столько песен The Smiths.
Год рождения
Отправилась в кино с нулевыми ожиданиями (разве что ради Юры Борисова), а вышла в экстатическом состоянии от нового фильма Местецкого, успев растрогаться до слез, посмеяться и, главное, — изумиться. Нет, вправду, изумиться — когда во время просмотра никак не предскажешь, что будет в следующем кадре. Даже не успеваешь сообразить, в какой момент все так поворачивается, что миленький ромком про несвоевременное отцовство неуместного мечтателя-урбаниста превращается в гротескную сказку, каких в современном российском кино не особенно сыщешь. И тело может запросто повиснуть на проводах под застывший в воздухе возглас про будущее на наших условиях, а отставшая от живого трупа голова — прокатиться по холмам Мурманска (в фильме — Металлогорска), чтоб поддержать жену добрым словом в тяжелых родах (это не финальные образы, но, чем кончилось, — не расскажу, посмотрите сами). Местецкий как будто и продолжает образы поруганной безразличием молодости из блестящих фильмов Хлебникова и Мещаниновой, но по дороге сильно меняет интонацию — простите за дурацкий каламбур, но превращает героев из отчаявшихся еще и в отчаянных.
Я двухгодичной давности на себя сегодняшнюю посмотрела бы с презрением, но не могу ничего поделать — во всех российских фильмах, что меня трогают, вижу (или хочу видеть?) не совсем политические высказывания, но, как минимум, обращения к зрителям, проживающим очень конкретный опыт в очень конкретное время. Так что сочтем за девиз: алло, Марина, надо верить в чудо — а то п*здец нам здесь [в Металлогорске].
Убийца
В пятницу еле заставила себя отправиться на лекции, потому что ужасно хотелось вместо этого поскорее приняться за последний фильм Финчера. У меня не так много режиссеров, новые ленты которых я не просто жду, а буквально брежу желанием немедленно увидеть. Раньше были такие случаи с Ирландцем Скорсезе и Брачной историей Баумбаха — когда летишь с работы домой и думаешь вот-вот-вот (а вы с чем такое переживали?). Любовь к Финчеру превращается в проблему — фильмы получается сравнивать только с его предыдущими. И поскольку превзойти Исчезнувшую, Зодиак, Социальную сеть, Девушку с татуировкой дракона — это мой личный топ — непросто, в просмотр неминуемо замешивается нотка разочарования. Для Убийцы лучший эпитет — английское слово classy, которое на русский переводится слишком многословно. По ощущениям, это не просто стильный, но и мастеровитый, элегантный, знающий себе цену. Финчер здесь жертвует триллерной эффектностью (в которой, как по мне, ему нет равных со времен Хичкока и которую лично я всегда жду от него в первую очередь) в пользу очень холодной, схематичной конструкции — чуть-чуть уже тронутой маньеризмом. Сбавляя темп, он становится больше похожим не на себя, а на позднего Шредера (ну или на мельвильевского Самурая — эта параллель на поверхности). Хотя моим личным ожиданиям такая перемена интонации не соответствует, сложно не признать, что Финчер-режиссер остается виртуозным дирижером — хоть и сократившим вдвое-втрое количество музыкантов в оркестре в погоне за чистотой исполнения. Еще, на контрасте с недавним просмотром Нолана, отметила, что вот здесь пафос не утомляет, потому что все время оборачивается юмором и самоиронией — это, например, про несоответствия между закадровым голосом и происходящим в кадре. Ну и, что скрывать, приятно было послушать столько песен The Smiths.
Год рождения
Отправилась в кино с нулевыми ожиданиями (разве что ради Юры Борисова), а вышла в экстатическом состоянии от нового фильма Местецкого, успев растрогаться до слез, посмеяться и, главное, — изумиться. Нет, вправду, изумиться — когда во время просмотра никак не предскажешь, что будет в следующем кадре. Даже не успеваешь сообразить, в какой момент все так поворачивается, что миленький ромком про несвоевременное отцовство неуместного мечтателя-урбаниста превращается в гротескную сказку, каких в современном российском кино не особенно сыщешь. И тело может запросто повиснуть на проводах под застывший в воздухе возглас про будущее на наших условиях, а отставшая от живого трупа голова — прокатиться по холмам Мурманска (в фильме — Металлогорска), чтоб поддержать жену добрым словом в тяжелых родах (это не финальные образы, но, чем кончилось, — не расскажу, посмотрите сами). Местецкий как будто и продолжает образы поруганной безразличием молодости из блестящих фильмов Хлебникова и Мещаниновой, но по дороге сильно меняет интонацию — простите за дурацкий каламбур, но превращает героев из отчаявшихся еще и в отчаянных.
Я двухгодичной давности на себя сегодняшнюю посмотрела бы с презрением, но не могу ничего поделать — во всех российских фильмах, что меня трогают, вижу (или хочу видеть?) не совсем политические высказывания, но, как минимум, обращения к зрителям, проживающим очень конкретный опыт в очень конкретное время. Так что сочтем за девиз: алло, Марина, надо верить в чудо — а то п*здец нам здесь [в Металлогорске].
❤🔥34🗿3❤2👍1
В 2015 году на филфаке проходила конференция по кино. В секции было два доклада про Балабанова: один мой, другой — рыжеволосой девушки, рассказывающей, как не внутри, но между двумя фильмами изменился образ Данилы Багрова. Мне тогда понравилось, как свободно она говорит, какой непосредственный и живой у нее язык (у меня такого не было). После заседания мы познакомились. Мне было интересно, где это она еще в СПбГУ изучает кино. Так я впервые услышала о Смольном.
Сегодня Саше Скочиленко дали 7 лет колонии общего режима за расклейку антивоенных ценников в Перекрестке весной 2022 года. Процесс длился полтора года и закончился итогом, который, как водится, никого не удивил, но все равно шокировал, выбил почву и причинил боль. Ведь, как заметил Александр Сокуров, приходивший неоднократно на слушания, Сашу судят не за преступление, а за позицию и нежелание поступаться собственной честностью. Думаю, быть за это судимым не хочет никто, каких бы позиций ни придерживался.
Я уверена, что Саша выйдет раньше и будет реабилитирована. Но отнятых лет и здоровья ей уже никто не вернет.
Сегодня Саше Скочиленко дали 7 лет колонии общего режима за расклейку антивоенных ценников в Перекрестке весной 2022 года. Процесс длился полтора года и закончился итогом, который, как водится, никого не удивил, но все равно шокировал, выбил почву и причинил боль. Ведь, как заметил Александр Сокуров, приходивший неоднократно на слушания, Сашу судят не за преступление, а за позицию и нежелание поступаться собственной честностью. Думаю, быть за это судимым не хочет никто, каких бы позиций ни придерживался.
Я уверена, что Саша выйдет раньше и будет реабилитирована. Но отнятых лет и здоровья ей уже никто не вернет.
ФОНТАНКА.ру
Художницу Скочиленко приговорили к семи годам лишения свободы
Суд приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии (статья 207.3 УК РФ) из-за замены ценников в «Перекрёстке» на стикеры о Мариуполе и событиях на Украине.
🕊66😢29
Спустя несколько месяцев продолжила серию текстов для HSE Media о личной документалистике. В этот раз пишу об антропологии ближнего круга — фильмах, режиссеры которых выбирают в герои родных людей. Текст получился довольно обзорным и несколько поверхностным, но зато аккумулирующим — богатым по материалу. Среди героинь и героев — Акерман (да, опять), Фридрих, Берлинер, Хатум, Эрно (а вы знали, что у нее в прошлом году вышел фильм, составленный из записей личного архива? я увидела совсем недавно), Кавасе, Хайзе, Дьетр, Кауэтт, Хура, Джонсон и актуальный в свете прошедшего фестиваля Абдулвахед.
Почитать можно здесь.
По перечисленным примерам заметно, что близкий Другой — мать, отец, муж — присутствует в фильмах только затем, чтобы проявить режиссерское переживание его реального отсутствия. И если обозначить центральной задачей антропологии ближнего круга анализ семейных отношений, заметно, что стертость этой фигуры как раз и становится главной темой.
Почитать можно здесь.
По перечисленным примерам заметно, что близкий Другой — мать, отец, муж — присутствует в фильмах только затем, чтобы проявить режиссерское переживание его реального отсутствия. И если обозначить центральной задачей антропологии ближнего круга анализ семейных отношений, заметно, что стертость этой фигуры как раз и становится главной темой.
design.hse.ru
Личная документалистика как антропология ближнего круга
Какой общий мотив объединяет работы классика раннего документального кино Роберта Флаэрти и современных режиссеров, снимающих «домашние» фильмы об отношениях с людьми из своего близкого окружения? Как может выглядеть кинематографический аналог книги Марии…
❤🔥23❤9👍1
Очень-очень-очень важная и трепетная новость.
На КиноПоиске сегодня вышел огромный (мой дебютный на сайте!) материал, над которым я работала четыре месяца. Когда читаете огромный, не рассчитывайте на преувеличение. По ссылке — подробная, фактурная и драматичная история пиратского киноперевода в СССР и России объемом в 60 тысяч знаков. Не знаю, во что я вкладывала больше сил, разве что — в кандидатскую диссертацию.
Расскажу, что осталось за кадром.
Чтобы его написать, я не только по крупицам-зернышкам-фразочкам собирала информацию из самых разных очевидных (их почти нет) и неочевидных источников, но и лично поговорила с пятью замечательными людьми. И, пожалуй, самые яркие моменты осени связаны именно с этими разговорами.
Когда раздался, например, телефонный звонок. Беру трубку и слышу голос, который знаю с пяти лет: Алло, Дарина? Это Василий Горчаков. Как будто я могла не узнать. Или когда скуриваю полпачки в несколько часов, потому что места себе не нахожу от волнения, готовясь к первому интервью с Юрием Сербиным. Он оказывается самым деликатным, внимательным, приятным и расчудесным человеком, уделив нашему общению целых полтора часа. Или когда прошу Андрея Дольского (он, кстати, тоже не пожалел времени на беседу) не забрасывать идею с написанием книги о его пиратских девяностых. Кто ещё так подробно расскажет, как видеобизнес жил по законам Дикого Запада. Но самое трогательное — в конце: я вправду чуть не расплакалась, когда Андрей Гаврилов закончил интервью словами "папе привет".
КиноПоиск — строгое издание, там как-то не до личного, но здесь можно вновь написать, что все тексты об одноголосых переводчиках я посвящаю папе, воспитавшему синефилку путем разучивания фразочек из переводов Михалева. Факт — без твоей любви к кино, без твоего вкуса, без труда, который ты затратил, собирая вручную нашу огромную коллекцию VHS, ничего бы не было. Так что, пусть с Юрием Товбиным мне побеседовать не удалось, все равно — люблю и прочти с удовольствием 🤍
На КиноПоиске сегодня вышел огромный (мой дебютный на сайте!) материал, над которым я работала четыре месяца. Когда читаете огромный, не рассчитывайте на преувеличение. По ссылке — подробная, фактурная и драматичная история пиратского киноперевода в СССР и России объемом в 60 тысяч знаков. Не знаю, во что я вкладывала больше сил, разве что — в кандидатскую диссертацию.
Расскажу, что осталось за кадром.
Чтобы его написать, я не только по крупицам-зернышкам-фразочкам собирала информацию из самых разных очевидных (их почти нет) и неочевидных источников, но и лично поговорила с пятью замечательными людьми. И, пожалуй, самые яркие моменты осени связаны именно с этими разговорами.
Когда раздался, например, телефонный звонок. Беру трубку и слышу голос, который знаю с пяти лет: Алло, Дарина? Это Василий Горчаков. Как будто я могла не узнать. Или когда скуриваю полпачки в несколько часов, потому что места себе не нахожу от волнения, готовясь к первому интервью с Юрием Сербиным. Он оказывается самым деликатным, внимательным, приятным и расчудесным человеком, уделив нашему общению целых полтора часа. Или когда прошу Андрея Дольского (он, кстати, тоже не пожалел времени на беседу) не забрасывать идею с написанием книги о его пиратских девяностых. Кто ещё так подробно расскажет, как видеобизнес жил по законам Дикого Запада. Но самое трогательное — в конце: я вправду чуть не расплакалась, когда Андрей Гаврилов закончил интервью словами "папе привет".
КиноПоиск — строгое издание, там как-то не до личного, но здесь можно вновь написать, что все тексты об одноголосых переводчиках я посвящаю папе, воспитавшему синефилку путем разучивания фразочек из переводов Михалева. Факт — без твоей любви к кино, без твоего вкуса, без труда, который ты затратил, собирая вручную нашу огромную коллекцию VHS, ничего бы не было. Так что, пусть с Юрием Товбиным мне побеседовать не удалось, все равно — люблю и прочти с удовольствием 🤍
Кинопоиск
Легенды VHS: рождение, смерть и новая жизнь авторского перевода в СССР и России — Статьи на Кинопоиске
Как появился и развивался феномен авторского перевода в СССР и России? Рассказываем о четырех поколениях киноголосов — от эпохи VHS до стримингов, от Леонида Володарского до Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
❤109❤🔥45👏11👍3🥰2🔥1🐳1
Сегодня день рождения празднует самиздат о кино К! 🤍
За три года из очень камерной студенческой инициативы выросло важнейшее для современного Петербурга (я знаю, вы шире, но мне как-то особенно дорог именно этот локальный акцент) киносообщество, которое с каждым месяцем вовлекает в свою орбиту все новых и новых людей. Вы, ребята, энергией, талантом, амбициями, страстью, примером того, как можно держаться вместе, — сумели выстроить что-то новое в пространстве, которое (был такой риск) могло просесть и сдаться без борьбы трагическим временам. Этого не случилось — и здесь, без преувеличений, есть огромная ваша заслуга.
Поздравляю и обнимаю членов прекрасной редакции. Чудо, что столько ярких людей могут так долго уживаться друг с другом в гармонии. С кем-то близко дружу, каждого безмерно уважаю и ценю. Спасибо огромное за все, что вы делаете для нашего общего ощущения близости, теплоты, за вашу открытость и искренность!
Кстати, совсем скоро выйдет новый номер самиздата. Предзаказы шестого выпуска уже открыты (для оформления напишите @hitheredi). Полистать его можно будет перед Новым годом, но уже сейчас предлагаю посмотреть тизер, смонтированный Полиной Трубицыной (вот тут чуть-чуть ниже не пропустите ссылку на сообщество в тг).
За три года из очень камерной студенческой инициативы выросло важнейшее для современного Петербурга (я знаю, вы шире, но мне как-то особенно дорог именно этот локальный акцент) киносообщество, которое с каждым месяцем вовлекает в свою орбиту все новых и новых людей. Вы, ребята, энергией, талантом, амбициями, страстью, примером того, как можно держаться вместе, — сумели выстроить что-то новое в пространстве, которое (был такой риск) могло просесть и сдаться без борьбы трагическим временам. Этого не случилось — и здесь, без преувеличений, есть огромная ваша заслуга.
Поздравляю и обнимаю членов прекрасной редакции. Чудо, что столько ярких людей могут так долго уживаться друг с другом в гармонии. С кем-то близко дружу, каждого безмерно уважаю и ценю. Спасибо огромное за все, что вы делаете для нашего общего ощущения близости, теплоты, за вашу открытость и искренность!
Кстати, совсем скоро выйдет новый номер самиздата. Предзаказы шестого выпуска уже открыты (для оформления напишите @hitheredi). Полистать его можно будет перед Новым годом, но уже сейчас предлагаю посмотреть тизер, смонтированный Полиной Трубицыной (вот тут чуть-чуть ниже не пропустите ссылку на сообщество в тг).
YouTube
К! Выпуск №6. Тизер
Шестой выпуск самиздата «К!» здесь: @zin
Автор тизера: Полина Трубицына
Автор тизера: Полина Трубицына
❤30👏3❤🔥1👍1🌚1
Миллион новостей и анонсов
❄️ Фестиваль невидимого кино активен, как никогда. Девочки продлили прием заявок на участие в новом смотре, так что до 13 декабря еще можно отправить им свой фильм, заполнив форму на сайте. Там же подробно расписано, что это за фестиваль (ну, вдруг кто-то все еще не знает!) и какие фильмы отбираются для участия. Котики обещают провести показы в феврале-марте, так что давайте уже сейчас вложимся в будущее яркое событие!
❄️ Полтора года назад я написала статью в научный журнал Versus как раз про Фестиваль невидимого кино, и он наконец-то вышел! Новый номер, посвященный исследованиям кино, идущим в обход оптикоцентризма, уже доступен в книжных магазинах города. Обложка очень красивая, а под ней — отличный коллектив авторов, который собрали Нина Саченкова и Ольга Давыдова. 14 декабря в 18.00 в Европейском университете пройдет презентация номера. Я там тоже буду, в прекрасной компании. Приходите, кому интересно!
❄️ Также приглашаю на еще один круглый стол, которых что-то очень много стало в последнее время. В рамках кинофестиваля Сделано в Санкт-Петербурге соберемся в ресторане Дома кино уже в это воскресенье, 10 декабря в 18.00. Тема разговора: «Нужна ли кинокритика сегодня?». Участники: Павел Пугачев (Сеанс), Диана Абу-Юсеф (К!), Виктория Смирнова-Майзель (Кинема), Владимир Митрофанов (Синема Рутин). Я модерирую. По сути, это такой перевод в живое пространство вот этого замечательного текста о новых бумажных самиздатах последних лет. Мне кажется, получится интересная беседа. Вход свободный, регистрироваться тоже не надо!
❄️ Наконец, коллеги сообщают, что 19 декабря в 19.00 в Доме радио состоится абсолютно суперическое событие: премьера «Трейлера фильма, которого никогда не будет: “Странные войны”» — фильма Годара, который вышел после смерти режиссера осенью 2022 года и был впервые представлен на Каннском кинофестивале весной 2023-го. Подробнее о том, что это за показ (да еще и сопровожденный лекцией киноведа Дмитрия Голотюка), можно почитать по ссылке. Регистрация на мероприятие откроется 15 декабря в 12.00, и я бы советовала поставить будильник, а то, боюсь, билеты разберут моментально. Здесь меня не будет, потому что вечера вторника безжалостно заняты парами, а так бы с вами стояла в очереди за билетами(((
❄️ Фестиваль невидимого кино активен, как никогда. Девочки продлили прием заявок на участие в новом смотре, так что до 13 декабря еще можно отправить им свой фильм, заполнив форму на сайте. Там же подробно расписано, что это за фестиваль (ну, вдруг кто-то все еще не знает!) и какие фильмы отбираются для участия. Котики обещают провести показы в феврале-марте, так что давайте уже сейчас вложимся в будущее яркое событие!
❄️ Полтора года назад я написала статью в научный журнал Versus как раз про Фестиваль невидимого кино, и он наконец-то вышел! Новый номер, посвященный исследованиям кино, идущим в обход оптикоцентризма, уже доступен в книжных магазинах города. Обложка очень красивая, а под ней — отличный коллектив авторов, который собрали Нина Саченкова и Ольга Давыдова. 14 декабря в 18.00 в Европейском университете пройдет презентация номера. Я там тоже буду, в прекрасной компании. Приходите, кому интересно!
❄️ Также приглашаю на еще один круглый стол, которых что-то очень много стало в последнее время. В рамках кинофестиваля Сделано в Санкт-Петербурге соберемся в ресторане Дома кино уже в это воскресенье, 10 декабря в 18.00. Тема разговора: «Нужна ли кинокритика сегодня?». Участники: Павел Пугачев (Сеанс), Диана Абу-Юсеф (К!), Виктория Смирнова-Майзель (Кинема), Владимир Митрофанов (Синема Рутин). Я модерирую. По сути, это такой перевод в живое пространство вот этого замечательного текста о новых бумажных самиздатах последних лет. Мне кажется, получится интересная беседа. Вход свободный, регистрироваться тоже не надо!
❄️ Наконец, коллеги сообщают, что 19 декабря в 19.00 в Доме радио состоится абсолютно суперическое событие: премьера «Трейлера фильма, которого никогда не будет: “Странные войны”» — фильма Годара, который вышел после смерти режиссера осенью 2022 года и был впервые представлен на Каннском кинофестивале весной 2023-го. Подробнее о том, что это за показ (да еще и сопровожденный лекцией киноведа Дмитрия Голотюка), можно почитать по ссылке. Регистрация на мероприятие откроется 15 декабря в 12.00, и я бы советовала поставить будильник, а то, боюсь, билеты разберут моментально. Здесь меня не будет, потому что вечера вторника безжалостно заняты парами, а так бы с вами стояла в очереди за билетами(((
Telegram
Фестиваль невидимого кино
http://invisiblefestival.tilda.ws/
Для связи:
полина каменецкая @polka_dottttt
катя бронникова @justkatebronnikova
Для связи:
полина каменецкая @polka_dottttt
катя бронникова @justkatebronnikova
❤22❤🔥9👍1
И еще два анонса, простите!
На этот раз про Сеанс.
Во-первых, редакция сообщает, что устраивает до пятницы распродажу книг, журналов и мерча. Я бы как раз на последний пункт обратила особенное внимание: очень уж хороши футболки с титрами фильмов Бергмана, Хичкока, Джармуша и Фассбиндера.
Во-вторых, книжный магазин Порядок слов в грядущую пятницу приглашает на лекцию Арины Журавлевой — арт-директора журнала «Сеанс». Раз большая часть моих студентов — дизайнеры, не могу не поделиться и этой новостью. Не припомню, чтобы Арина хоть когда-то частила с публичными выступлениями, так что возможность почти уникальная, да и анонс интригующий:
...как кадр фильма превращается из прямой цитаты в самостоятельную художественную единицу, а обрезы журналов в титры, почему журнал Сеанс однажды чуть не стал розовым и причем здесь пиджак Фассбиндера.
Кстати, как раз в пятницу в «Порядке слов» на Фонтанке книги издательства «Сеанс» можно будет купить со скидкой 10%.
На этот раз про Сеанс.
Во-первых, редакция сообщает, что устраивает до пятницы распродажу книг, журналов и мерча. Я бы как раз на последний пункт обратила особенное внимание: очень уж хороши футболки с титрами фильмов Бергмана, Хичкока, Джармуша и Фассбиндера.
Во-вторых, книжный магазин Порядок слов в грядущую пятницу приглашает на лекцию Арины Журавлевой — арт-директора журнала «Сеанс». Раз большая часть моих студентов — дизайнеры, не могу не поделиться и этой новостью. Не припомню, чтобы Арина хоть когда-то частила с публичными выступлениями, так что возможность почти уникальная, да и анонс интригующий:
...как кадр фильма превращается из прямой цитаты в самостоятельную художественную единицу, а обрезы журналов в титры, почему журнал Сеанс однажды чуть не стал розовым и причем здесь пиджак Фассбиндера.
Кстати, как раз в пятницу в «Порядке слов» на Фонтанке книги издательства «Сеанс» можно будет купить со скидкой 10%.
❤24❤🔥6👏2👍1
Дочитав перевод книги Мириам Хансен Вавилон и вавилонское столпотворение: зритель в немом американском кино, подумала, что этот текст — отличный сейсмограф индивидуальных отношений с теорией кино.
Я не читала до этого Хансен и не знаю, так ли устроены прочие её книги, но Вавилон как будто пытается выкрутить все возможные варианты кинотеоретических исследований: тут и оголённый теоретический дискурс, спаривающий Фрейда с Делезом, Метца со Стивеном Хитом, Малви с Мэри Эн Доан; и подход, называемый сейчас медиаархеологическим, — изучающий, в том числе, экстрафильмические практики в исторической перспективе (как были устроены залы, где показывали кино? а кто туда ходил? а кто музыку выбирал? а кто выступал перед сеансами?); и почти школярские штудии, состоящие в дисциплинированном прикладывании известных концептов (идентификация, мужской / женский взгляд) к конкретному фильмическому материалу (у Хансен это фильмы Гриффита и перформансы Рудольфо Валентино в основном). Книга от совмещения всех этих, прямо скажем, довольно разных перспектив, пухнет, рассыпаясь на фрагменты, из которых некоторые очень любопытны, а другие приходится пролистывать или читать через предложение.
О сейсмографе я говорю как раз потому, что решение о том, к чему относиться с вниманием, а что пропускать, принимается из личных предпочтений, а не оттого, что в каких-то частях текста Хансен хороша, а в каких-то — нет.
Мне, например, все еще легко дается прочтение абстрактных теоретических текстов, даже если они не порождают ничего особенно нового (а с Хансен, к слову, так и происходит — она систематизирует концепты, а не создает их). Удовольствие от такого процесса можно счесть за своеобразный акт профессиональной мастурбации, когда сверяешь свое понимание теории с чужим, радуешься узнаваниям и возможности читать / думать на родном языке — как будто, бродя по улицам чужой страны, услышал внезапно русскую речь из уст незнакомцев.
Самыми примечательными фрагментами оказались те, где Хансен, покопавшись в источниках, рассказывает об истории зрительства в первых американских кинотеатрах. Это не только социологический срез — хотя он тоже интересен, я, например, никогда не задумывалась, в чем конкретно выражалась знаменитая мигрантская специфика никельодионов, а тут это очень фактурно подано (про еврейские и итальянские зрительские общины, например). Но самое классное — это исследование организации показов. Например, про приглашение лекторов, сопровождавших живой речью немые фильмы, чтобы приладить их к очень конкретной, локальной аудитории. Или про значимую фигуру киномеханика, который тогда, по сути, мог самостоятельно решать, в какой монтажной версии, с каким хронометражом будет показан фильм вот в этот конкретный раз.
У Хансен есть отличный тезис (также, в целом, не ее, но хорошо ею развернутый), что переход от рассмотрения конкретных практик демонстрации к анализу фильмов как стабильных и неизменных единиц — тоже результат стандартизации 1930-х годов, привнесших ее не только в кинематографический стиль, но и вообще во все существование киноиндустрии. В который раз убеждаюсь, что мой неудержимый интерес к теме закадрового перевода, расходящийся с тем, чем я всегда занималась раньше, связан именно с этим историческим поворотом, произошедшим не только в теории кино 1980-х годов, но и, наконец-то, у меня в голове. Часто сожалею, что так не вовремя поучилась на истфаке, потому что только сейчас начинаю схватывать очарование исторических исследований.
Я не читала до этого Хансен и не знаю, так ли устроены прочие её книги, но Вавилон как будто пытается выкрутить все возможные варианты кинотеоретических исследований: тут и оголённый теоретический дискурс, спаривающий Фрейда с Делезом, Метца со Стивеном Хитом, Малви с Мэри Эн Доан; и подход, называемый сейчас медиаархеологическим, — изучающий, в том числе, экстрафильмические практики в исторической перспективе (как были устроены залы, где показывали кино? а кто туда ходил? а кто музыку выбирал? а кто выступал перед сеансами?); и почти школярские штудии, состоящие в дисциплинированном прикладывании известных концептов (идентификация, мужской / женский взгляд) к конкретному фильмическому материалу (у Хансен это фильмы Гриффита и перформансы Рудольфо Валентино в основном). Книга от совмещения всех этих, прямо скажем, довольно разных перспектив, пухнет, рассыпаясь на фрагменты, из которых некоторые очень любопытны, а другие приходится пролистывать или читать через предложение.
О сейсмографе я говорю как раз потому, что решение о том, к чему относиться с вниманием, а что пропускать, принимается из личных предпочтений, а не оттого, что в каких-то частях текста Хансен хороша, а в каких-то — нет.
Мне, например, все еще легко дается прочтение абстрактных теоретических текстов, даже если они не порождают ничего особенно нового (а с Хансен, к слову, так и происходит — она систематизирует концепты, а не создает их). Удовольствие от такого процесса можно счесть за своеобразный акт профессиональной мастурбации, когда сверяешь свое понимание теории с чужим, радуешься узнаваниям и возможности читать / думать на родном языке — как будто, бродя по улицам чужой страны, услышал внезапно русскую речь из уст незнакомцев.
Самыми примечательными фрагментами оказались те, где Хансен, покопавшись в источниках, рассказывает об истории зрительства в первых американских кинотеатрах. Это не только социологический срез — хотя он тоже интересен, я, например, никогда не задумывалась, в чем конкретно выражалась знаменитая мигрантская специфика никельодионов, а тут это очень фактурно подано (про еврейские и итальянские зрительские общины, например). Но самое классное — это исследование организации показов. Например, про приглашение лекторов, сопровождавших живой речью немые фильмы, чтобы приладить их к очень конкретной, локальной аудитории. Или про значимую фигуру киномеханика, который тогда, по сути, мог самостоятельно решать, в какой монтажной версии, с каким хронометражом будет показан фильм вот в этот конкретный раз.
У Хансен есть отличный тезис (также, в целом, не ее, но хорошо ею развернутый), что переход от рассмотрения конкретных практик демонстрации к анализу фильмов как стабильных и неизменных единиц — тоже результат стандартизации 1930-х годов, привнесших ее не только в кинематографический стиль, но и вообще во все существование киноиндустрии. В который раз убеждаюсь, что мой неудержимый интерес к теме закадрового перевода, расходящийся с тем, чем я всегда занималась раньше, связан именно с этим историческим поворотом, произошедшим не только в теории кино 1980-х годов, но и, наконец-то, у меня в голове. Часто сожалею, что так не вовремя поучилась на истфаке, потому что только сейчас начинаю схватывать очарование исторических исследований.
👍15❤🔥4❤2
Если же говорить о фрагментах, которые я пролистывала, — то это как раз те, где Хансен по волокнам разбирает отдельные кадры из Нетерпимости, рассказывая, например, как можно прочитать образ женщины, качающей колыбель, в перспективе семиотики и психоанализа. Здесь ничего нового — у меня давняя аллергия на такой вариант кинотеории. Пожалуй, дело в том, что я никак не могу понять, для кого пишутся такие тексты (если только это не работа в рамках учебного процесса, по которой нужно рассудить, насколько студент овладел разными теоретическими инструментами), недаром дальше академических сборников они не уходят. Они не запоминаются, они утомительны и скучны из-за избыточной детализации, они — что, пожалуй, основной их недостаток — убивают всякий интерес к самостоятельной мысли. Никак не могу отделаться от ощущения, что авторы подобных текстов и сами не в состоянии ответствовать за смысл своей работы — разве что признаться в удовольствии от самолюбования. Главный аргумент в их защиту обычно — возможность расширить / углубить (кому что ценнее) понимание фильма. Но вот тут на плечо каждому должен садиться маленький Рансьер и нашептывать в ушко про учителя-шарлатана, который вместо того, чтобы простимулировать самостоятельное мышление, пережевывает все тайны, секретики, недосказанности и двусмысленности в кашицу и сует ее по ложечке в рты читателей-учеников.
И еще: вот это свежая мысль. Я вдруг поняла, что теория кино как раз нравится мне именно своей отвлеченностью. Ее существование как бы движется по параболе: она получает от конкретного материала / из конкретного опыта (это очень важно, без этого — до свидания уже на первом этапе) импульс к рождению, затем расцветает, оттачивается, превращается в умозрительную конструкцию, а потом, увы, влачит довольно жалкое существование. Как только теория превращается в методологию и неминуемо начинает прикладываться к конкретным фильмам, всякое ее очарование для меня совершенно утрачивается. Думать про male gaze в кино в целом — ок. Читать, как он работает в фильмах Мартина Скорсезе — невозможная скука. И дальше вопрос, на который я сама себе не могу ответить: если теоретические построения нищают в применении, то зачем они тогда нужны? Отдавая себе отчёт в субъективности такого распределения интереса, его, возможно, даже стоит переформулировать: если для тебя, Дарина, теоретические построения (даже твои собственные) в последующем приложении к конкретному материалу оказываются неинтересными, ради чего ты всю профессиональную жизнь занимаешься теорией кино?
Может, пора скорректировать идентичность?
И еще: вот это свежая мысль. Я вдруг поняла, что теория кино как раз нравится мне именно своей отвлеченностью. Ее существование как бы движется по параболе: она получает от конкретного материала / из конкретного опыта (это очень важно, без этого — до свидания уже на первом этапе) импульс к рождению, затем расцветает, оттачивается, превращается в умозрительную конструкцию, а потом, увы, влачит довольно жалкое существование. Как только теория превращается в методологию и неминуемо начинает прикладываться к конкретным фильмам, всякое ее очарование для меня совершенно утрачивается. Думать про male gaze в кино в целом — ок. Читать, как он работает в фильмах Мартина Скорсезе — невозможная скука. И дальше вопрос, на который я сама себе не могу ответить: если теоретические построения нищают в применении, то зачем они тогда нужны? Отдавая себе отчёт в субъективности такого распределения интереса, его, возможно, даже стоит переформулировать: если для тебя, Дарина, теоретические построения (даже твои собственные) в последующем приложении к конкретному материалу оказываются неинтересными, ради чего ты всю профессиональную жизнь занимаешься теорией кино?
Может, пора скорректировать идентичность?
❤14👍13🙏3❤🔥2🤔1
Мне тоже очень понравился новый фильм Александра Пэйна. Смотреть Оставленных было тепло, утешительно и как-то ностальгично. Как будто мне снова 5-6 лет, мы с папой покатались по заснеженным улицам на санках, а вечером вернулись домой к маме, заварили чай и включили кассету* с каким-нибудь фильмом из восьмидесятых — идеально попадающим своей простотой и нежностью в атмосферу семейного просмотра.
Во многих хвалебных отзывах, написанных людьми моего поколения, сквозит именно такая детская интонация, адресующаяся сложному сгустку воспоминаний, относящихся не ко времени действия фильма (1970е), не ко времени, когда такие ленты в Голливуде выпускались в особенно больших количествах (1980е), а ко времени, когда мы их смотрели — в девяностые, забравшись с ногами на старый диван. Мне кажется, отсюда (а не только от рождественской темы самого фильма) ассоциации с подарочком под ёлкой — как описал просмотр один мой друг.
...«Оставленные» — чудо из чудес <...> cловно забытая, но найденная на другой стороне ветра киноплёнка <...> короче, проверьте ёлочку, под ней лежит запечатанная коробка...
Но помимо поколенческой специфики испытанного удовольствия, есть, мне кажется, еще одна: по крайней мере, в моем окружении Оставленные как-то особенно трогают мужчин. Марат, например, на финальных сценах едва не заплакал. Другой дорогой друг пишет:
...момент, когда кино в достаточной мере переполняет тебя, чтобы отбросить лишнее рациональное и оставить только благодарность фильму за то, что он дарит тебе силы, настроение и какое-то легковесное вдохновение и желание жить несмотря ни на что...
Понимаю, что с такой выборкой невозможно прийти к каким-то масштабным заключениям, но отчего-то это случайное совпадение восприятий меня не оставляет — тут речь идет не просто о приятии фильма, а о внезапной растроганности, заставшей врасплох и сделавшей беззащитным.
Хочется даже сказать, что Оставленные — превосходный пример мужской мелодрамы, в природе, в специфической сентиментальности которой интересно было бы разобраться. Ведь как бы ни была хороша в кадре Давайн Джой Рэндольф, очевидно, что она — второй план, а основной сентиментальный фокус здесь на героях Джаматти и Доминика Сесса.
Вопрос нетривиальный, ведь мелодрама (не путать с ромкомом!) в теории кино обычно осмыслялась как жанр, ориентированный на женщин (об этом писало какое-то невероятное количество авторов — от Стэнли Кавелла до Аннетт Кун). И если тенденция последних десятилетий — фем-ревизия традиционно мужского кино (вестернов, боевиков и т.д.), то об обратном жанровом движении тоже интересно подумать поподробнее. Наверное, что-то близкое можно найти в некоторых buddy movie, но там, как по мне, сентиментальность все же запечатана в другие зрительские настройки (юмор, экшн, пафос) и приходит исподволь (на эту тему по результатам беглого поиска нашла диссертацию Amy Jean Woodworth, но сама ее не читала).
В общем, Оставленные, кажется, может понравиться любому, но есть подозрение, что если вы — мужчина в районе тридцати, то вам удовольствие попросту гарантировано.
* про ностальгию еще: там даже в открывающих (!) титрах мелькает логотип Motion Picture Administration of America, который моментально меня перекидывает в детство — он всегда появлялся в конце заключительных титров, а как раз в VHS-период их часто приходилось смотреть. Например, если хочешь увидеть второй из записанных на кассету фильмов, но немного прогадал с перемоткой.
Во многих хвалебных отзывах, написанных людьми моего поколения, сквозит именно такая детская интонация, адресующаяся сложному сгустку воспоминаний, относящихся не ко времени действия фильма (1970е), не ко времени, когда такие ленты в Голливуде выпускались в особенно больших количествах (1980е), а ко времени, когда мы их смотрели — в девяностые, забравшись с ногами на старый диван. Мне кажется, отсюда (а не только от рождественской темы самого фильма) ассоциации с подарочком под ёлкой — как описал просмотр один мой друг.
...«Оставленные» — чудо из чудес <...> cловно забытая, но найденная на другой стороне ветра киноплёнка <...> короче, проверьте ёлочку, под ней лежит запечатанная коробка...
Но помимо поколенческой специфики испытанного удовольствия, есть, мне кажется, еще одна: по крайней мере, в моем окружении Оставленные как-то особенно трогают мужчин. Марат, например, на финальных сценах едва не заплакал. Другой дорогой друг пишет:
...момент, когда кино в достаточной мере переполняет тебя, чтобы отбросить лишнее рациональное и оставить только благодарность фильму за то, что он дарит тебе силы, настроение и какое-то легковесное вдохновение и желание жить несмотря ни на что...
Понимаю, что с такой выборкой невозможно прийти к каким-то масштабным заключениям, но отчего-то это случайное совпадение восприятий меня не оставляет — тут речь идет не просто о приятии фильма, а о внезапной растроганности, заставшей врасплох и сделавшей беззащитным.
Хочется даже сказать, что Оставленные — превосходный пример мужской мелодрамы, в природе, в специфической сентиментальности которой интересно было бы разобраться. Ведь как бы ни была хороша в кадре Давайн Джой Рэндольф, очевидно, что она — второй план, а основной сентиментальный фокус здесь на героях Джаматти и Доминика Сесса.
Вопрос нетривиальный, ведь мелодрама (не путать с ромкомом!) в теории кино обычно осмыслялась как жанр, ориентированный на женщин (об этом писало какое-то невероятное количество авторов — от Стэнли Кавелла до Аннетт Кун). И если тенденция последних десятилетий — фем-ревизия традиционно мужского кино (вестернов, боевиков и т.д.), то об обратном жанровом движении тоже интересно подумать поподробнее. Наверное, что-то близкое можно найти в некоторых buddy movie, но там, как по мне, сентиментальность все же запечатана в другие зрительские настройки (юмор, экшн, пафос) и приходит исподволь (на эту тему по результатам беглого поиска нашла диссертацию Amy Jean Woodworth, но сама ее не читала).
В общем, Оставленные, кажется, может понравиться любому, но есть подозрение, что если вы — мужчина в районе тридцати, то вам удовольствие попросту гарантировано.
* про ностальгию еще: там даже в открывающих (!) титрах мелькает логотип Motion Picture Administration of America, который моментально меня перекидывает в детство — он всегда появлялся в конце заключительных титров, а как раз в VHS-период их часто приходилось смотреть. Например, если хочешь увидеть второй из записанных на кассету фильмов, но немного прогадал с перемоткой.
❤23👍9❤🔥4🌚1