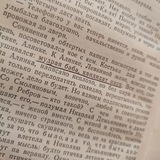Выход книги — всегда очень волнительный и приятный момент, даже если написана она не соло, а в компании прекрасных коллег.
Андрей Николаевич Фоменко после выпуска из Смольного всегда появляется в моей жизни, чтобы предложить что-то замечательное. Преподавать в Вышке, например, или, вот, поучаствовать в создании книги.
Издательство НЛО, которое я очень люблю, сообщает, что из печати пришла наша коллективная монография о советском искусстве 1920-х годов. Написали её в четыре руки — про фотографию, изобразительное искусство, архитектуру и кино (за последнее я и отвечала).
В своей главе рассказываю о Кулешове, Эйзенштейне, Вертове и Шуб. О том, почему передовое советское кино в эти годы хотя и базировалось на общем монтажном основании, не может и не должно казаться одинаковым. Пишу о четырёх типах зрителя, рождению которых способствовали эксперименты каждого из этих режиссёров. В процессе работы некоторые вещи сама для себя неожиданно чётко разложила по полочкам, особенно, о Шуб, про которую я до этого много рассказывала, но никогда не переводила сказанное в текст.
В общем, книга уже доступна для покупки на сайте, скоро, видимо, появится и в книжных.
Андрей Николаевич Фоменко после выпуска из Смольного всегда появляется в моей жизни, чтобы предложить что-то замечательное. Преподавать в Вышке, например, или, вот, поучаствовать в создании книги.
Издательство НЛО, которое я очень люблю, сообщает, что из печати пришла наша коллективная монография о советском искусстве 1920-х годов. Написали её в четыре руки — про фотографию, изобразительное искусство, архитектуру и кино (за последнее я и отвечала).
В своей главе рассказываю о Кулешове, Эйзенштейне, Вертове и Шуб. О том, почему передовое советское кино в эти годы хотя и базировалось на общем монтажном основании, не может и не должно казаться одинаковым. Пишу о четырёх типах зрителя, рождению которых способствовали эксперименты каждого из этих режиссёров. В процессе работы некоторые вещи сама для себя неожиданно чётко разложила по полочкам, особенно, о Шуб, про которую я до этого много рассказывала, но никогда не переводила сказанное в текст.
В общем, книга уже доступна для покупки на сайте, скоро, видимо, появится и в книжных.
❤57🔥19👍1👏1
В этот раз у меня катастрофически не задалась осень. Весь сентябрь прошел в каком-то дурмане из головной боли, слез, неуместных воспоминаний и внутренней маяты в попытках уговорить себя четыре раза в неделю собираться с силами, чтобы не обнаруживать разбитость в рабочие часы.
В таком состоянии нашла идеальное чтение — Московские повести Юрия Трифонова, к которым давно хотела подступиться. Впрочем, хотела из-за пустяка, ничего особо не зная о самом писателе. Просто одна из повестей (самая известная) называется Дом на набережной, а меня всегда завораживала такая мифообразная разметка Москвы, которая не нравится мне в реальности, но влечет отдельными местами, литературной и фильмической образностью, преимущественно — советской. В итоге села за книгу после того, как послушала замечательную дискуссию о сборнике, которую всем теперь советую (Игоря знаю лично и читаю его канал, Юрия Сапрыкина лично не знаю, но так люблю, что готова все на свете слушать с его участием).
Один из лейтмотивов обсуждения — желание раскрыть Трифонова как советского экзистенциалиста, сумевшего точнее всех литераторов позднесоветского времени описать и выразить специфическую застойную чувствительность обыкновенных, не слишком счастливых по жизни (ну а с чего мы взяли, что счастье — это норма?) средневозрастных мужчин и женщин. После такой подводки невозможно не захотеть тут же приняться за чтение, если вы, как и я, любите советское кино той же эпохи с его непроявленными героями, в которых тесные стены индивидуальных квартир, переполненных шкафчиками, полочками и ящичками — с ковриками, скатерками, сервизиками, к 40-ка годам сдавили мечтателей, романтиков и героев (Отпуск в сентябре, Осенний марафон, Странная женщина, Тема, Фантазии Фарятьева, Полеты во сне и наяву).
И не прогадала; настроение и вправду один к одному.
Правда от трифоновского варианта может стать еще тоскливее, чем от кино, потому что повествование строится так, что следить приходится не за событиями жизни, а за воспоминаниями о них в форме внутреннего монолога (в этом смысле аналогия с Отпуском в сентябре — все-таки самая точная). Рассказчик Трифонова — элегичный ностальгик, который неназванному адресату пересказывает, как сложилась жизнь, будто у самого себя берет печальное, длинное, по сути, как будто никому и не нужное интервью.
Еще из интересных параллелей с кино: несколько раз, приглядываясь к тексту, обнаруживала, что неправильно прочитываю в нем глагол жалеть (например, из Обмена: Робкими прикосновениями она жалела его... или На одно мгновение он очень остро пожалел ее...). Дело в том, что у Трифонова жалеют друг друга всегда мужчины и женщины, и всякий раз это записано так, что вместо жалеть хочется прочитать желать. Тем сильнее это вяжется с настроением застойных фильмов об одиночестве, где отношения пар (бывших / несостоявшихся / вот-вот разведенных) действительно основаны не на желании, а на какой-то жалостливой расположенности, робкой и всегда неудачной попытке возместить невозместимую нехватку близости.
Из дискуссии запомнилось очень меткое: что в повестях совершенно отсутствует периодически свойственная советской литературе интонация морального превосходства автора над героями. Трифонов вместе с ними как будто не слишком знает, как и что правильно — сделать, сказать, почувствовать в разные моменты жизни. И вязкость последней состоит в том, что все мы постоянно демонстрируем по отношению друг к другу не злодейство, но некоторую душевную неточность (замечательная формулировка!), порождающую затем те самые гирьки, которые давят на сердце небольшим, но ощутимым весом, когда с утра открываешь глаза в новый день.
Но есть вопреки этой печали в трифоновской прозе — как и в застойном кино — что-то очень нежное и уютное, как в прогулке среди пятиэтажек с приподъездными скамеечками и зелеными двориками. Ни от чего не лечит, но и не добивает (поэтому Время желаний Юлия Райзмана — кино с трифоновской проблематикой, но совсем не с его интонацией). В конце концов, в повестях даже самые грустные герои умирают только от старости.
В таком состоянии нашла идеальное чтение — Московские повести Юрия Трифонова, к которым давно хотела подступиться. Впрочем, хотела из-за пустяка, ничего особо не зная о самом писателе. Просто одна из повестей (самая известная) называется Дом на набережной, а меня всегда завораживала такая мифообразная разметка Москвы, которая не нравится мне в реальности, но влечет отдельными местами, литературной и фильмической образностью, преимущественно — советской. В итоге села за книгу после того, как послушала замечательную дискуссию о сборнике, которую всем теперь советую (Игоря знаю лично и читаю его канал, Юрия Сапрыкина лично не знаю, но так люблю, что готова все на свете слушать с его участием).
Один из лейтмотивов обсуждения — желание раскрыть Трифонова как советского экзистенциалиста, сумевшего точнее всех литераторов позднесоветского времени описать и выразить специфическую застойную чувствительность обыкновенных, не слишком счастливых по жизни (ну а с чего мы взяли, что счастье — это норма?) средневозрастных мужчин и женщин. После такой подводки невозможно не захотеть тут же приняться за чтение, если вы, как и я, любите советское кино той же эпохи с его непроявленными героями, в которых тесные стены индивидуальных квартир, переполненных шкафчиками, полочками и ящичками — с ковриками, скатерками, сервизиками, к 40-ка годам сдавили мечтателей, романтиков и героев (Отпуск в сентябре, Осенний марафон, Странная женщина, Тема, Фантазии Фарятьева, Полеты во сне и наяву).
И не прогадала; настроение и вправду один к одному.
Правда от трифоновского варианта может стать еще тоскливее, чем от кино, потому что повествование строится так, что следить приходится не за событиями жизни, а за воспоминаниями о них в форме внутреннего монолога (в этом смысле аналогия с Отпуском в сентябре — все-таки самая точная). Рассказчик Трифонова — элегичный ностальгик, который неназванному адресату пересказывает, как сложилась жизнь, будто у самого себя берет печальное, длинное, по сути, как будто никому и не нужное интервью.
Еще из интересных параллелей с кино: несколько раз, приглядываясь к тексту, обнаруживала, что неправильно прочитываю в нем глагол жалеть (например, из Обмена: Робкими прикосновениями она жалела его... или На одно мгновение он очень остро пожалел ее...). Дело в том, что у Трифонова жалеют друг друга всегда мужчины и женщины, и всякий раз это записано так, что вместо жалеть хочется прочитать желать. Тем сильнее это вяжется с настроением застойных фильмов об одиночестве, где отношения пар (бывших / несостоявшихся / вот-вот разведенных) действительно основаны не на желании, а на какой-то жалостливой расположенности, робкой и всегда неудачной попытке возместить невозместимую нехватку близости.
Из дискуссии запомнилось очень меткое: что в повестях совершенно отсутствует периодически свойственная советской литературе интонация морального превосходства автора над героями. Трифонов вместе с ними как будто не слишком знает, как и что правильно — сделать, сказать, почувствовать в разные моменты жизни. И вязкость последней состоит в том, что все мы постоянно демонстрируем по отношению друг к другу не злодейство, но некоторую душевную неточность (замечательная формулировка!), порождающую затем те самые гирьки, которые давят на сердце небольшим, но ощутимым весом, когда с утра открываешь глаза в новый день.
Но есть вопреки этой печали в трифоновской прозе — как и в застойном кино — что-то очень нежное и уютное, как в прогулке среди пятиэтажек с приподъездными скамеечками и зелеными двориками. Ни от чего не лечит, но и не добивает (поэтому Время желаний Юлия Райзмана — кино с трифоновской проблематикой, но совсем не с его интонацией). В конце концов, в повестях даже самые грустные герои умирают только от старости.
YouTube
Литературная гостиная Леонида Клейна. Выпуск 7. Повести Юрия Трифонова
Итак, очередной – уже седьмой по счету! – выпуск Литературной гостиной готов. Он посвящен повестям Трифонова, в особенности – «Обмену». Казалось бы, экономические и социальные реалии трифоновской прозы остались в прошлом, и можно было ожидать, что сегодня…
❤33🕊7😢5❤🔥2👍2
Спешу напомнить, а кому-то — рассказать, что уже на следующей неделе в Петербурге начинается фестиваль Послание к человеку. С 20 по 28 октября на разных площадках можно будет посмотреть конкурсные программы мирового и национального документального кино, легендарную программу экспериментального кино In Silico, сходить на специальные показы полнометражных новинок, которые могут никогда не дойти до проката.
Сама планирую ходить на разные сеансы, может быть, удастся оперативно рассказывать о впечатлениях (хотя не совсем мой жанр), но заранее порекомендую один прекрасный фильм — Предлагаемые обстоятельства из Национального конкурса. Снял его Никита Ефимов, а спродюсировала Марина Разбежкина.
На финальных титрах хочется сказать, что это история о ныне обезглавленных российских театрах на частном примере Современника, но на деле фактура все-таки еще посложнее. Мне очень нравится тягостная фатальность названия этого фильма, с одной стороны отсылающая к театральной терминологии, а с другой — еще раз указывающая на то, что в наших жизнях всегда существует фон больших событий, которые невозможно изменить, из них, увы, приходится просто исходить. Есть и другая важная линия — про то, как людям категорически не удается вовремя проявить чуткость по отношению друг к другу. И, наконец, третья: о том, как это — сознавать, что от мест и сообществ, когда-то бывших для тебя всем, теперь остались только оболочка да название, а внутри все выгорело. Оставить или остаться?
Но все эти комментарии, на самом деле, не важны. Куда ценнее и интереснее — самостоятельно заглянуть за кулисы и подслушать, что (и с какой интонацией!) говорят друг другу на репетициях Марина Неелова и Никита Ефремов. Сходите обязательно. Осторожно, не всплакните на кадре с портретами членов труппы 2020 года.
Сама планирую ходить на разные сеансы, может быть, удастся оперативно рассказывать о впечатлениях (хотя не совсем мой жанр), но заранее порекомендую один прекрасный фильм — Предлагаемые обстоятельства из Национального конкурса. Снял его Никита Ефимов, а спродюсировала Марина Разбежкина.
На финальных титрах хочется сказать, что это история о ныне обезглавленных российских театрах на частном примере Современника, но на деле фактура все-таки еще посложнее. Мне очень нравится тягостная фатальность названия этого фильма, с одной стороны отсылающая к театральной терминологии, а с другой — еще раз указывающая на то, что в наших жизнях всегда существует фон больших событий, которые невозможно изменить, из них, увы, приходится просто исходить. Есть и другая важная линия — про то, как людям категорически не удается вовремя проявить чуткость по отношению друг к другу. И, наконец, третья: о том, как это — сознавать, что от мест и сообществ, когда-то бывших для тебя всем, теперь остались только оболочка да название, а внутри все выгорело. Оставить или остаться?
Но все эти комментарии, на самом деле, не важны. Куда ценнее и интереснее — самостоятельно заглянуть за кулисы и подслушать, что (и с какой интонацией!) говорят друг другу на репетициях Марина Неелова и Никита Ефремов. Сходите обязательно. Осторожно, не всплакните на кадре с портретами членов труппы 2020 года.
Message2Man
IFF Message to Man
International Film Festival "Message to Man".
❤39👍3
Маленькие новости:
***
В самом начале октября замечательные коллеги из Пермской Синематеки пригласили развернуто представить киноэссе Марка Казинса о Хичкоке, показанное в рамках Beat Weekend. Очень хотелось приехать лично, чтобы познакомиться и погулять по Перми, но пока график не позволяет, так что поучаствовала во всем по зуму. Зато осталась запись — получилась небольшая вводная лекция о Хичкоке. Ее — как и лекции других приглашенных киноведов и кинокритиков — коллеги выкладывают в специальной группе, куда рекомендую заглядывать, например, чтобы посмотреть записи выступлений Ксении Реутовой или Зары Абдуллаевой. Ну а если вдруг среди моих подписчиков и подписчиц есть кто-то из Перми, то тем более, ребята, здорово, что есть такое уютное сообщество — приходите на встречи очно!
***
Другие коллеги сообщают, что 23 октября в 18.00 в Порядке слов пройдет презентация нового номера киноведческого журнала Кинема. Выпуск 4/5 сдвоенный — про нарратив и про перевод. Пока не держала его в руках, но помню, что коллектив авторов там подобрался блестящий (из тех, кого запомнила, один раз бегло просмотрев оглавление, — Нина Савченкова, Лариса Муравьева, Диана Абу-Юсеф, Ирина Ломакина — уверена, что кого-то еще классного забыла, пожалуйста, не обижайтесь!). Мой вклад тоже есть, пусть и очень маленький — небольшой текстик о переводчике Алексее Михалеве, этакий спин-офф большого сеансовского текста об истории и эстетике VHS перевода. Если хотите прийти на презентацию, нужно зарегистрироваться.
***
Такие новости.
До встречи завтра на эксклюзивном показе нового фильма Аличе Рорвахер!
***
В самом начале октября замечательные коллеги из Пермской Синематеки пригласили развернуто представить киноэссе Марка Казинса о Хичкоке, показанное в рамках Beat Weekend. Очень хотелось приехать лично, чтобы познакомиться и погулять по Перми, но пока график не позволяет, так что поучаствовала во всем по зуму. Зато осталась запись — получилась небольшая вводная лекция о Хичкоке. Ее — как и лекции других приглашенных киноведов и кинокритиков — коллеги выкладывают в специальной группе, куда рекомендую заглядывать, например, чтобы посмотреть записи выступлений Ксении Реутовой или Зары Абдуллаевой. Ну а если вдруг среди моих подписчиков и подписчиц есть кто-то из Перми, то тем более, ребята, здорово, что есть такое уютное сообщество — приходите на встречи очно!
***
Другие коллеги сообщают, что 23 октября в 18.00 в Порядке слов пройдет презентация нового номера киноведческого журнала Кинема. Выпуск 4/5 сдвоенный — про нарратив и про перевод. Пока не держала его в руках, но помню, что коллектив авторов там подобрался блестящий (из тех, кого запомнила, один раз бегло просмотрев оглавление, — Нина Савченкова, Лариса Муравьева, Диана Абу-Юсеф, Ирина Ломакина — уверена, что кого-то еще классного забыла, пожалуйста, не обижайтесь!). Мой вклад тоже есть, пусть и очень маленький — небольшой текстик о переводчике Алексее Михалеве, этакий спин-офф большого сеансовского текста об истории и эстетике VHS перевода. Если хотите прийти на презентацию, нужно зарегистрироваться.
***
Такие новости.
До встречи завтра на эксклюзивном показе нового фильма Аличе Рорвахер!
❤32👍1
Внимание-внимание!
Как только закончится Послание к человеку, приходите, пожалуйста, к нам в Дом кино обсуждать непростую, отчасти болезненную, но, мне кажется, очень важную сейчас тему — как сегодня поход в кино превращается в этический жест?
Идея собрать такую дискуссию выросла спонтанно — из поста Паши Пугачева, но в итоге вылилась в ряд больших вопросов, которые интересно обсудить с разных сторон, опираясь, в том числе, и на личные зрительские практики. Собрали для этого команду специалистов разных профессий — есть исследователь, кинокритик, продюсер, куратор и замечательная мультипрофессиональная Диана Абу-Юсеф, которая будет модерировать все это действо.
Ждем вас 30 октября в 19.00 в Белом зале.
Билеты здесь.
Анонс:
Как минимум с 1960-х годов теоретики и критики убеждали нас, что поход в кинотеатр нужно рассматривать как этический жест: покупая билет, зритель выбирает не только фильм, в компании которого хочет провести вечер, но и размечает собственную позицию в системе властных отношений, пронизывающих общество и киноиндустрию. Вести такой разговор абстрактно, будто бы во все времена все работает одинаково, — не интересно. Кино и кинотеатры меняются вместе с обществом, вынуждая зрителя отвечать на вызовы, которые еще вчера могли быть совершенно не актуальными. Так что отбросим вопрос, что значит ходить в кино, и обсудим, как и зачем мы ходим в кино сегодня? Почему один фильм обязательно посмотрим в кинотеатре, а на другой не купим билет принципиально? Зачем в городском пространстве создаются многочисленные киноклубы? Как кинопоказ может превращаться в перформанс? Всегда ли пиратство неприемлемо? Как поход в кино может стать жестом поддержки?
Как только закончится Послание к человеку, приходите, пожалуйста, к нам в Дом кино обсуждать непростую, отчасти болезненную, но, мне кажется, очень важную сейчас тему — как сегодня поход в кино превращается в этический жест?
Идея собрать такую дискуссию выросла спонтанно — из поста Паши Пугачева, но в итоге вылилась в ряд больших вопросов, которые интересно обсудить с разных сторон, опираясь, в том числе, и на личные зрительские практики. Собрали для этого команду специалистов разных профессий — есть исследователь, кинокритик, продюсер, куратор и замечательная мультипрофессиональная Диана Абу-Юсеф, которая будет модерировать все это действо.
Ждем вас 30 октября в 19.00 в Белом зале.
Билеты здесь.
Анонс:
Как минимум с 1960-х годов теоретики и критики убеждали нас, что поход в кинотеатр нужно рассматривать как этический жест: покупая билет, зритель выбирает не только фильм, в компании которого хочет провести вечер, но и размечает собственную позицию в системе властных отношений, пронизывающих общество и киноиндустрию. Вести такой разговор абстрактно, будто бы во все времена все работает одинаково, — не интересно. Кино и кинотеатры меняются вместе с обществом, вынуждая зрителя отвечать на вызовы, которые еще вчера могли быть совершенно не актуальными. Так что отбросим вопрос, что значит ходить в кино, и обсудим, как и зачем мы ходим в кино сегодня? Почему один фильм обязательно посмотрим в кинотеатре, а на другой не купим билет принципиально? Зачем в городском пространстве создаются многочисленные киноклубы? Как кинопоказ может превращаться в перформанс? Всегда ли пиратство неприемлемо? Как поход в кино может стать жестом поддержки?
❤🔥22👏4👍2
Пока я собираюсь с силами, чтобы написать пост о впечатлениях от Послания, будет срочная рекомендация!
Если не очень устали, советую завтра и послезавтра сходить на Фестиваль любительского кино в Севкабель. Программу собирают очень талантливые ребята, большинство — выпускники и студенты Смольного: кураторки Фестиваля невидимого кино Полина Каменецкая и Катя Бронникова, кураторка ВНУТРИ Яна Нохрина, исследователь трэш-кино-и-видео Боря Сорокин. Но есть и независимый исследователь Андрей Макотинский — собиратель 16мм-плёнок, куратор очень обаятельной программы советского любительского кино, которую показывали сегодня. Ещё в первый день можно было послушать лекцию замечательной исследовательницы Марии Виноградовой, каким-то чудом оказавшейся в России точно в нужные даты, — про любительские плёночные форматы (наконец-то усвоила эту тему!). Но на субботу и воскресенье тоже запланировано много всего интересного: программа любительского VHS, подборки с фестивалей ВНУТРИ, Фестиваля невидимого кино и других проектов, собирающих вместе современных кинолюбителей.
Ещё перед началом сегодняшних мероприятий другая группа моих студенток из Вышки под руководством любимой Кати Вахрушевой презентовала проект видимо. Пока это тг-канал, задача которого — собирать афишу кинопоказов и кинолекций, проходящих на независимых площадках или хотя бы вне основного проката. Но если дело пойдет, нас ждёт много всего интересного (я видела на защитах полную презентацию, так что знаю, о чем говорю!). Я, например, очень надеюсь на выпуск мерча — это, в том числе, многоразовые бахилы. Гениальное изобретение для меня и для вас, если вы тоже любите за просмотром забираться в кресло с ногами. Объятия всем подписавшимся, а двойные — тем, кто напишет Кате о своих кинопроектах (контакты есть в описании канала).
Если не очень устали, советую завтра и послезавтра сходить на Фестиваль любительского кино в Севкабель. Программу собирают очень талантливые ребята, большинство — выпускники и студенты Смольного: кураторки Фестиваля невидимого кино Полина Каменецкая и Катя Бронникова, кураторка ВНУТРИ Яна Нохрина, исследователь трэш-кино-и-видео Боря Сорокин. Но есть и независимый исследователь Андрей Макотинский — собиратель 16мм-плёнок, куратор очень обаятельной программы советского любительского кино, которую показывали сегодня. Ещё в первый день можно было послушать лекцию замечательной исследовательницы Марии Виноградовой, каким-то чудом оказавшейся в России точно в нужные даты, — про любительские плёночные форматы (наконец-то усвоила эту тему!). Но на субботу и воскресенье тоже запланировано много всего интересного: программа любительского VHS, подборки с фестивалей ВНУТРИ, Фестиваля невидимого кино и других проектов, собирающих вместе современных кинолюбителей.
Ещё перед началом сегодняшних мероприятий другая группа моих студенток из Вышки под руководством любимой Кати Вахрушевой презентовала проект видимо. Пока это тг-канал, задача которого — собирать афишу кинопоказов и кинолекций, проходящих на независимых площадках или хотя бы вне основного проката. Но если дело пойдет, нас ждёт много всего интересного (я видела на защитах полную презентацию, так что знаю, о чем говорю!). Я, например, очень надеюсь на выпуск мерча — это, в том числе, многоразовые бахилы. Гениальное изобретение для меня и для вас, если вы тоже любите за просмотром забираться в кресло с ногами. Объятия всем подписавшимся, а двойные — тем, кто напишет Кате о своих кинопроектах (контакты есть в описании канала).
❤32🔥6👍3🥰1
О Послании к человеку — напишу в двух частях, получилось много.
(вообще в этом году я как-то вовремя собралась и очень много всего посмотрела, с прошлым — когда единственным интересным мне фильмом был зум с Маратом — вообще не сравнить)
Раньше я ходила на все показы Кино Сверхреальности, но сейчас, когда эксклюзив в ней заметно поредел, решила понадеяться, что все интересные хайлайты, вроде Фрау и Каникул, еще доберутся до проката или стримингов, поэтому посмотрела только О сухой траве. У меня почему-то исторически сложились крайне теплые отношения с фильмами Джейлана. С ними всегда очень уютно — может быть, от частого сочетания суровых зимних пейзажей с тесным полумраком пространств, куда хочется поскорее войти с мороза и глотнуть горячего чаю. За просмотром нового фильма, несмотря на хронометраж, совсем не скучала, много улыбалась, отчасти — потому что узнавала в главном герое черты одного своего знакомого. Тип он, конечно, неприятный, немножко жалкий, но симпатично, что Джейлан оставляет зрителю пространство для разного отношения к персонажу, так выходит честнее. Финальный закадровый монолог, например, вынуждает хотя бы чуть-чуть, но взглянуть на жизнь в его перспективе, что дается непросто, потому что предшествующие три часа естественнее было усмехаться и отгораживаться. Дивно красивая девочка в главной роли.
Из Международного конкурса документальных фильмов мои фавориты — Бэкграунд Халеда Абдулвахеда и Прощай, дикарь Серхио Гуатакира Сармьенто. Оба — про поиск возможности сократить дистанцию, которая отделяет от близких. В одном случае она искусственная, в другом — естественная, в соответствии с этим подобраны и методы. Оба фильма очень честны к зрителю и рефлексивны по отношению к традициям документального кино. Отец Абдулвахеда остался в Сирии, режиссер вынужденно эмигрировал в Германию. Бэкграунд можно смотреть как комментарий к оппозиции свидетельства и документа, где второй теряет свою авторитетность и подвергается открытой фальсификации как раз ради того, чтобы больше соответствовать реальности пережитого опыта. Сармьенто начинает снимать в надежде, что вот сейчас сблизится с представителями индейского племени какуа, но в процессе понимает, что несмотря на какую-то там общность происхождения, это едва ли возможно. Прощай, дикарь явно дискутирует с традицией визуальной антропологии дальнего круга: сначала подтачивает ее привычную исследовательскую холодность личным мотивом, а потом отказывается от него — как от слишком наивного, чтобы все-таки выстроить отношения с героями как с другими, не-близкими, но равными. Очень тронул момент, когда героиня расплакалась, признавшись, что ей бы очень хотелось пообщаться с режиссером, сблизиться с ним — но она, правда, не может от банального незнания языка.
Из программы Новые голоса удалось посмотреть Магнитные поля и Безопасное место — оба очень хорошие, совершенно друг с другом не схожие. Магнитные поля напоминает сплав методов мамблкора и Аббаса Киаростами, снятый в моем визуально любимом формате MiniDV. Славно, что фильм — про дружбу, а не про роман, я все боялась, что герои в конце концов захотят друг с другом переспать и внесут ненужную ноту в очень нежную и забавную историю о недолгой встрече двух одиноких людей. Тем более, что дружбу как чувство, в сравнении с любовью, режиссеры как-то стабильно недооценивают. Безопасное место посмотрела уже после того, как прочитала множество восхищенных отзывов, что немного сбило восприятие. Это досадно. Как будто эффект, который фильм мог произвести, оказался уже обезвреженным, состоялся, скорее, умозрительно, чем реально был пережит. Но все равно советую. Правда, мне кажется, это тот случай, когда к фильму в обязательном порядке должен прилагаться рассказ о контексте его создания. Я не уверена, что исключительно фикциональное измерение тут сработает так же сильно, не узнай мы о том, что фильм, по сути, почти реэнактмент реально произошедших событий. По отзывам кажется, что та же история смыкания внутрикадрового и закамерного пространства важна для Острова, который я, увы, пока не посмотрела.
(вообще в этом году я как-то вовремя собралась и очень много всего посмотрела, с прошлым — когда единственным интересным мне фильмом был зум с Маратом — вообще не сравнить)
Раньше я ходила на все показы Кино Сверхреальности, но сейчас, когда эксклюзив в ней заметно поредел, решила понадеяться, что все интересные хайлайты, вроде Фрау и Каникул, еще доберутся до проката или стримингов, поэтому посмотрела только О сухой траве. У меня почему-то исторически сложились крайне теплые отношения с фильмами Джейлана. С ними всегда очень уютно — может быть, от частого сочетания суровых зимних пейзажей с тесным полумраком пространств, куда хочется поскорее войти с мороза и глотнуть горячего чаю. За просмотром нового фильма, несмотря на хронометраж, совсем не скучала, много улыбалась, отчасти — потому что узнавала в главном герое черты одного своего знакомого. Тип он, конечно, неприятный, немножко жалкий, но симпатично, что Джейлан оставляет зрителю пространство для разного отношения к персонажу, так выходит честнее. Финальный закадровый монолог, например, вынуждает хотя бы чуть-чуть, но взглянуть на жизнь в его перспективе, что дается непросто, потому что предшествующие три часа естественнее было усмехаться и отгораживаться. Дивно красивая девочка в главной роли.
Из Международного конкурса документальных фильмов мои фавориты — Бэкграунд Халеда Абдулвахеда и Прощай, дикарь Серхио Гуатакира Сармьенто. Оба — про поиск возможности сократить дистанцию, которая отделяет от близких. В одном случае она искусственная, в другом — естественная, в соответствии с этим подобраны и методы. Оба фильма очень честны к зрителю и рефлексивны по отношению к традициям документального кино. Отец Абдулвахеда остался в Сирии, режиссер вынужденно эмигрировал в Германию. Бэкграунд можно смотреть как комментарий к оппозиции свидетельства и документа, где второй теряет свою авторитетность и подвергается открытой фальсификации как раз ради того, чтобы больше соответствовать реальности пережитого опыта. Сармьенто начинает снимать в надежде, что вот сейчас сблизится с представителями индейского племени какуа, но в процессе понимает, что несмотря на какую-то там общность происхождения, это едва ли возможно. Прощай, дикарь явно дискутирует с традицией визуальной антропологии дальнего круга: сначала подтачивает ее привычную исследовательскую холодность личным мотивом, а потом отказывается от него — как от слишком наивного, чтобы все-таки выстроить отношения с героями как с другими, не-близкими, но равными. Очень тронул момент, когда героиня расплакалась, признавшись, что ей бы очень хотелось пообщаться с режиссером, сблизиться с ним — но она, правда, не может от банального незнания языка.
Из программы Новые голоса удалось посмотреть Магнитные поля и Безопасное место — оба очень хорошие, совершенно друг с другом не схожие. Магнитные поля напоминает сплав методов мамблкора и Аббаса Киаростами, снятый в моем визуально любимом формате MiniDV. Славно, что фильм — про дружбу, а не про роман, я все боялась, что герои в конце концов захотят друг с другом переспать и внесут ненужную ноту в очень нежную и забавную историю о недолгой встрече двух одиноких людей. Тем более, что дружбу как чувство, в сравнении с любовью, режиссеры как-то стабильно недооценивают. Безопасное место посмотрела уже после того, как прочитала множество восхищенных отзывов, что немного сбило восприятие. Это досадно. Как будто эффект, который фильм мог произвести, оказался уже обезвреженным, состоялся, скорее, умозрительно, чем реально был пережит. Но все равно советую. Правда, мне кажется, это тот случай, когда к фильму в обязательном порядке должен прилагаться рассказ о контексте его создания. Я не уверена, что исключительно фикциональное измерение тут сработает так же сильно, не узнай мы о том, что фильм, по сути, почти реэнактмент реально произошедших событий. По отзывам кажется, что та же история смыкания внутрикадрового и закамерного пространства важна для Острова, который я, увы, пока не посмотрела.
❤14👍10
Вот. Про Национальный конкурс и In Silico напишу как-нибудь попозже
❤24😢3👍1