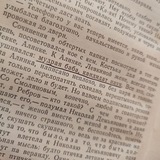Мой первый рождественский фильм в этом сезоне — Christmas Eve in Miller's Point (пока нет единообразной локализации).
Тайлер Таормина по примеру Вадима Кострова может выпускать фильмы ностальгической серией — о юношеском восприятии времен года. Если Хлеб с ветчиной был о растянутом на все лето окончании школы, то новый — о главной зимней ночи. Замечательно, что в нем находится место и типичной для американского кино рождественской иконографии (тут носки над камином, подарки в цветастой упаковке, утка в духовке, толпа родственников в шерстяных свитерах), и более тонким морозно-праздничным ощущениям — легко узнаваемым в повседневности, но не превращенным в клише (их оставлю в виде кадров). Комбинация получается идеальной — нежной, теплой, радостной, но совершенно не приторной, не фальшивой. Осторожно: во время просмотра захочется прямо сейчас развесить в квартире гирлянды.
Ограничусь лаконичным советом, чисто для настроения, а подробнее о фильме скоро можно будет прочитать в другом, не мной написанном тексте.
Тайлер Таормина по примеру Вадима Кострова может выпускать фильмы ностальгической серией — о юношеском восприятии времен года. Если Хлеб с ветчиной был о растянутом на все лето окончании школы, то новый — о главной зимней ночи. Замечательно, что в нем находится место и типичной для американского кино рождественской иконографии (тут носки над камином, подарки в цветастой упаковке, утка в духовке, толпа родственников в шерстяных свитерах), и более тонким морозно-праздничным ощущениям — легко узнаваемым в повседневности, но не превращенным в клише (их оставлю в виде кадров). Комбинация получается идеальной — нежной, теплой, радостной, но совершенно не приторной, не фальшивой. Осторожно: во время просмотра захочется прямо сейчас развесить в квартире гирлянды.
Ограничусь лаконичным советом, чисто для настроения, а подробнее о фильме скоро можно будет прочитать в другом, не мной написанном тексте.
❤40🔥9👍1
Очень радуюсь тенденции последнего года — новым переизданиям ключевых текстов классической теории кино. В начале 2024-го года в Ad Marginem вышла Теория кино. Реабилитация физической реальности Зигфрида Кракауэра (уже стоит у меня на полке), теперь там же выпустили самую известную работу Белы Балажа — Видимый человек, или Культура кино. И еще недавно появилась Фотогения Луи Деллюка.
Переиздание Балажа из всего этого, пожалуй, самое нужное. Не только потому, что, на мой взгляд, его тексты среди всех перечисленных наиболее изящные и интересные для обсуждения в свете поворота к аффективности и перцептивности...
...но и потому, что в СССР они издавались какими-то несуразными кусками, из-за чего могло показаться, что он, как типичный представитель современной академической культуры, повторяет одно и то же, чтоб только увеличить количество публикаций. Например, Видимый человек и Культура кино выходили двумя отдельными книгами, хотя в оригинальном издании это две части одной работы.
Все эти тексты настолько известны, что их можно без труда найти в сети, но насколько же приятнее читать их не в кривых pdf-ках (бумажные версии всего названного очень сложно отыскать даже в хороших букинистах), а с новыми предисловиями, в приятном оформлении. Можно, конечно, посетовать, что (почти) не выпускают что-то более современное, у чего вовсе отсутствует русский перевод, но едва ли две эти задачи должны между собой конкурировать, одно не важнее другого. Теория кино не работает по принципу последовательного обнуления: более свежий текст не оказывается важнее раннего. Так что начинать серьезное и основательное погружение в это поле в любом случае нужно не с Вивиан Собчак и Хамида Нафиси, а с Эйзенштейна, Балажа, Кракауэра и Базена. И погружение это теперь точно будет приятнее (ждем переиздания знаменитого сборника Из истории французской киномысли, когда-то составленного Михаилом Ямпольским).
Переиздание Балажа из всего этого, пожалуй, самое нужное. Не только потому, что, на мой взгляд, его тексты среди всех перечисленных наиболее изящные и интересные для обсуждения в свете поворота к аффективности и перцептивности...
Человек визуальной культуры словами не мыслит и не выписывает в воздухе слоги наподобие азбуки Морзе. Его жесты выражают не понятия, но спонтанное, нерациональное «я», и то, что читается на его лице или в движениях, извержено из таких душевных глубин, для описания которых слов не хватит. В этот момент дух непосредственно становится плотью — безгласной, видимой. Нынче человечество изучает заново во многом забытый язык мимики. Это не язык глухонемых, где слова заменены жестами, но визуальное послание воплотившейся в теле души. Человек снова становится видимым.
...но и потому, что в СССР они издавались какими-то несуразными кусками, из-за чего могло показаться, что он, как типичный представитель современной академической культуры, повторяет одно и то же, чтоб только увеличить количество публикаций. Например, Видимый человек и Культура кино выходили двумя отдельными книгами, хотя в оригинальном издании это две части одной работы.
Все эти тексты настолько известны, что их можно без труда найти в сети, но насколько же приятнее читать их не в кривых pdf-ках (бумажные версии всего названного очень сложно отыскать даже в хороших букинистах), а с новыми предисловиями, в приятном оформлении. Можно, конечно, посетовать, что (почти) не выпускают что-то более современное, у чего вовсе отсутствует русский перевод, но едва ли две эти задачи должны между собой конкурировать, одно не важнее другого. Теория кино не работает по принципу последовательного обнуления: более свежий текст не оказывается важнее раннего. Так что начинать серьезное и основательное погружение в это поле в любом случае нужно не с Вивиан Собчак и Хамида Нафиси, а с Эйзенштейна, Балажа, Кракауэра и Базена. И погружение это теперь точно будет приятнее (ждем переиздания знаменитого сборника Из истории французской киномысли, когда-то составленного Михаилом Ямпольским).
🔥25❤20👍8
Недавно друг В. поинтересовался, понравилась ли мне новая книга Крис Краус. Я отделалась лаконичным нет, но обещала поделиться развёрнутым мнением позже, потому что с ним возникла неоднозначность. Я еле дочитала Пришельцев и анорексию, но совсем не хотелось отзываться о Краус с резкостью. И чтобы сформулировать, почему эта несуразная и затянутая книга все равно не вызывает антипатии, потребовалось прочитать что-то по-настоящему раздражающее.
Нужный контраст задал текст Даниэля Шрайбера: в Один и ок за кринжовым названием скрывается не менее неловкое чтиво. Чрезвычайно привилегированный, до тошноты во всем благополучный писатель тратит несколько страниц на описание душевного смятения от невозможности решиться на поездку в Альпы; отправляется в писательские резиденции, чтобы писать там книги о пребывании в писательских резиденциях (поразительная рекурсия посредственности!); задумывается о собственном одиночестве на фоне (ни за что не догадаетесь) ковида и лечит его (ни за что не догадаетесь) выращиванием растений.
Но самое неприятное в тексте — полное отсутствие самоиронии и шулерский ход с неизменным лучиком надежды в конце: когда автор долго описывает себя несчастным, чтобы в финале кокетливо сообщить, что жизнь его непостижимым образом сделалась лучше благодаря уходу за цветами и собиранию афоризмов из философских текстов. Хотя такой итог, в общем, логичен: надуманные проблемы и правда имеют свойство разрешаться легко.
Так вот: чем точно выделяется Краус на фоне других авторов, занятых самоописанием, так это честным, последовательным и лишенным фальшивого хэппи-энда рассказом о своих провалах. Последние важно отличать от травм, на которых скорее сфокусирован современный автофикшн. Но что требует большей отваги? Разумеется, о многих травмах писать действительно тяжело — все еще с содроганием вспоминаю, например, начало Хронологии воды. И все же контекст, в котором сегодня существуют личные тексты, сделал этот процесс куда более комфортным: теперь, признаваясь в наличии раны, едва ли чувствуешь себя неловко или неуместно, позиция травмированного обрела специфическое достоинство. Другое дело — провал: по себе знаю, что о нем сообщать до сих пор по-настоящему трудно.
Родись Краус в другое время, наверняка нашла бы себя в стендапе — вот там принято тематизировать не травмы, а провалы. У нее это началось еще в I Love Dick, где, конечно, много воодушевляющего о поиске писательского я, но в центре, как ни крути, история выдуманного романа с мужчиной, которому на Краус абсолютно плевать. Пришельцы и анорексия развивает именно этот мотив, превращаясь в жизнеописание не просто неудачницы, но человека, по многочисленным оценкам, правда не очень талантливого — и сама Краус это за собой как будто признает, превращая нехватку в интересную для высказывания позицию.
Лучшая линия книги связана с абсолютно удручающей работой над ее единственным фильмом, с унизительными неделями на Берлинском кинорынке.
В ошеломительно нелепой идее вплести в такой личный сюжет смерти Ульрики Майнхоф и Симоны Вайль, инопланетян и феминизм — заманчиво увидеть воплощение той же концептуальной неловкости, но уже писательской, а не режиссерской.
Впрочем, скорее всего, я надумываю, и сама Краус с таким тезисом не согласилась бы; вероятно, ее отношение к этому странному тексту куда более серьезно. Но мне нравится видеть в нем именно эту предельность провала — без желания обнулить описанную в тексте позицию созданием мощной прозы и без шансов на последнем вираже обернуться чем-то воодушевляющим. У Пришельцев и анорексии два финала: в одном перечисляются письма с отказами, полученные по итогам берлинской поездки, в другом выясняется, что бывший отдушиной партнер для секса по телефону утомился от их разговоров и украдкой начал искать себе новую собеседницу.
Нужный контраст задал текст Даниэля Шрайбера: в Один и ок за кринжовым названием скрывается не менее неловкое чтиво. Чрезвычайно привилегированный, до тошноты во всем благополучный писатель тратит несколько страниц на описание душевного смятения от невозможности решиться на поездку в Альпы; отправляется в писательские резиденции, чтобы писать там книги о пребывании в писательских резиденциях (поразительная рекурсия посредственности!); задумывается о собственном одиночестве на фоне (ни за что не догадаетесь) ковида и лечит его (ни за что не догадаетесь) выращиванием растений.
Но самое неприятное в тексте — полное отсутствие самоиронии и шулерский ход с неизменным лучиком надежды в конце: когда автор долго описывает себя несчастным, чтобы в финале кокетливо сообщить, что жизнь его непостижимым образом сделалась лучше благодаря уходу за цветами и собиранию афоризмов из философских текстов. Хотя такой итог, в общем, логичен: надуманные проблемы и правда имеют свойство разрешаться легко.
Так вот: чем точно выделяется Краус на фоне других авторов, занятых самоописанием, так это честным, последовательным и лишенным фальшивого хэппи-энда рассказом о своих провалах. Последние важно отличать от травм, на которых скорее сфокусирован современный автофикшн. Но что требует большей отваги? Разумеется, о многих травмах писать действительно тяжело — все еще с содроганием вспоминаю, например, начало Хронологии воды. И все же контекст, в котором сегодня существуют личные тексты, сделал этот процесс куда более комфортным: теперь, признаваясь в наличии раны, едва ли чувствуешь себя неловко или неуместно, позиция травмированного обрела специфическое достоинство. Другое дело — провал: по себе знаю, что о нем сообщать до сих пор по-настоящему трудно.
Родись Краус в другое время, наверняка нашла бы себя в стендапе — вот там принято тематизировать не травмы, а провалы. У нее это началось еще в I Love Dick, где, конечно, много воодушевляющего о поиске писательского я, но в центре, как ни крути, история выдуманного романа с мужчиной, которому на Краус абсолютно плевать. Пришельцы и анорексия развивает именно этот мотив, превращаясь в жизнеописание не просто неудачницы, но человека, по многочисленным оценкам, правда не очень талантливого — и сама Краус это за собой как будто признает, превращая нехватку в интересную для высказывания позицию.
Лучшая линия книги связана с абсолютно удручающей работой над ее единственным фильмом, с унизительными неделями на Берлинском кинорынке.
Показ Грэвити и Грейс назначен на девять утра в пятницу — последний день ярмарки. Я представила, как люди будут ковылять на ярмарку к одиннадцати, если вообще кто-то доползет туда после бурной вечеринки закрытия — а может, и нескольких; ни на одну из них, как выяснилось, я не была приглашена.
В ошеломительно нелепой идее вплести в такой личный сюжет смерти Ульрики Майнхоф и Симоны Вайль, инопланетян и феминизм — заманчиво увидеть воплощение той же концептуальной неловкости, но уже писательской, а не режиссерской.
Впрочем, скорее всего, я надумываю, и сама Краус с таким тезисом не согласилась бы; вероятно, ее отношение к этому странному тексту куда более серьезно. Но мне нравится видеть в нем именно эту предельность провала — без желания обнулить описанную в тексте позицию созданием мощной прозы и без шансов на последнем вираже обернуться чем-то воодушевляющим. У Пришельцев и анорексии два финала: в одном перечисляются письма с отказами, полученные по итогам берлинской поездки, в другом выясняется, что бывший отдушиной партнер для секса по телефону утомился от их разговоров и украдкой начал искать себе новую собеседницу.
❤13❤🔥9👍4
Еще с окончания Послания висит недописанная заметка об одном мотиве, который неожиданно соединил три симпатичных мне фильма из совершенно разных программ. Это отшельничество — главная тема риверсовского Боганклоха, косвенная линия в фильме Кемпинг у озера из программы Новые голоса и один из важных сюжетов Снега в моем дворе, новой работы Бакура Бакурадзе, которая точно окажется в моем списке лучших фильмов 2024 года.
Чем больше времени проходит с просмотра, тем теплее моё отношение. Бакурадзе почти десять лет ничего не снимал, поэтому был риск, что середину двадцатых он спутает с нулевыми, ограничится неловким воспроизведением уже не слишком свежей интонации, одним из создателей которой когда-то стал. И в Снег в моём дворе правда встречаются мотивы новых тихих: во всяком случае, в московских сегментах, где снимается сам Бакурадзе, отыгрывая привычную для своих прошлых героев неприкаянность в стеклянных интерьерах большого города (есть тут даже каноничные кадры с людьми в отражениях). Вот только спустя столько лет работы в кино он помещает в них самого себя, а не вымышленных персонажей, тем самым нарушая дистанцию между собой и фильмом, которая оставалась неприкосновенной в кино нулевых во имя подчеркнутой холодности. И это прекрасный шаг — пусть и очень осторожный, без свойственной нашей эпохе откровенности в разговоре о личных чувствах. Впрочем, именно эта робость и подкупает: будто Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
Но есть в Снег в моем дворе и вторая партия — друга детских времен, неожиданно обнаруженного героем Бакурадзе в зрелости. Он, Леван, уже много лет живет уединенно, по-отшельнически, изредка принимая гостей в не слишком опрятной, но чрезвычайно уютной квартире в закоулках Тбилиси. Будь в фильме только этот сюжет, от него все равно сложно было бы оторваться: можно часами наблюдать, как на фоне побелевшего двора бегают теплые, коричневые собаки; как герои неспешно попивают чай из пиал под ритм мокрого снега; как сидят на деревянном балконе, окутанном паутиной бельевых веревок; как Леван сушит феном промокшие шерстяные носки, опершись о стену с орнаментом из коротких и длинных трещин. Интонационно герой единичен и уникален (возможно, Леон Гоголадзе попросту сыграл сам себя — это его единственная роль в кино), но при желании узнаваем — это волею судьбы оставшийся одиноким, пожилой, но не старый еще мужчина, у которого налажен удобный ему, но непостижимый со стороны холостяцкий быт. Так что квартира немного напоминает гараж постсоветских традиций: здесь могут отсутствовать вещи, нужные в любом комфортном жилище, но вместо них тут и там рассованы тысячи мелочей — либо с историей, либо для таинственного когда-нибудь. Прекрасно, что Бакурадзе находит героя, для которого отшельническая жизнь не поза, а естество. Сразу исчезают штампы: Леван, конечно, пишет книгу, как и положено одиночкам, но как-то неромантично, лениво, не желая переутомляться и потому задействуя только два пальца из десяти.
В прошлый раз после Послания я признавалась в симпатии Магнитным полям за желание вести разговор о дружбе. Снег в моем дворе тоже об этом — о повторном сближении и о том, что нужду друг в друге никогда не выйдет отмерить поровну.
Чем больше времени проходит с просмотра, тем теплее моё отношение. Бакурадзе почти десять лет ничего не снимал, поэтому был риск, что середину двадцатых он спутает с нулевыми, ограничится неловким воспроизведением уже не слишком свежей интонации, одним из создателей которой когда-то стал. И в Снег в моём дворе правда встречаются мотивы новых тихих: во всяком случае, в московских сегментах, где снимается сам Бакурадзе, отыгрывая привычную для своих прошлых героев неприкаянность в стеклянных интерьерах большого города (есть тут даже каноничные кадры с людьми в отражениях). Вот только спустя столько лет работы в кино он помещает в них самого себя, а не вымышленных персонажей, тем самым нарушая дистанцию между собой и фильмом, которая оставалась неприкосновенной в кино нулевых во имя подчеркнутой холодности. И это прекрасный шаг — пусть и очень осторожный, без свойственной нашей эпохе откровенности в разговоре о личных чувствах. Впрочем, именно эта робость и подкупает: будто Бакурадзе разворачивается к зрителю вполоборота и не прямо, не крикливо, а слегка вбок произносит спокойно, с достоинством: вот он я.
Но есть в Снег в моем дворе и вторая партия — друга детских времен, неожиданно обнаруженного героем Бакурадзе в зрелости. Он, Леван, уже много лет живет уединенно, по-отшельнически, изредка принимая гостей в не слишком опрятной, но чрезвычайно уютной квартире в закоулках Тбилиси. Будь в фильме только этот сюжет, от него все равно сложно было бы оторваться: можно часами наблюдать, как на фоне побелевшего двора бегают теплые, коричневые собаки; как герои неспешно попивают чай из пиал под ритм мокрого снега; как сидят на деревянном балконе, окутанном паутиной бельевых веревок; как Леван сушит феном промокшие шерстяные носки, опершись о стену с орнаментом из коротких и длинных трещин. Интонационно герой единичен и уникален (возможно, Леон Гоголадзе попросту сыграл сам себя — это его единственная роль в кино), но при желании узнаваем — это волею судьбы оставшийся одиноким, пожилой, но не старый еще мужчина, у которого налажен удобный ему, но непостижимый со стороны холостяцкий быт. Так что квартира немного напоминает гараж постсоветских традиций: здесь могут отсутствовать вещи, нужные в любом комфортном жилище, но вместо них тут и там рассованы тысячи мелочей — либо с историей, либо для таинственного когда-нибудь. Прекрасно, что Бакурадзе находит героя, для которого отшельническая жизнь не поза, а естество. Сразу исчезают штампы: Леван, конечно, пишет книгу, как и положено одиночкам, но как-то неромантично, лениво, не желая переутомляться и потому задействуя только два пальца из десяти.
В прошлый раз после Послания я признавалась в симпатии Магнитным полям за желание вести разговор о дружбе. Снег в моем дворе тоже об этом — о повторном сближении и о том, что нужду друг в друге никогда не выйдет отмерить поровну.
❤🔥19❤7👍6🔥3
Многие спрашивают: не победительница, но призёрка (и также -- специальное устное упоминание некоторых гостей церемонии За защиту чести и достоинства документалистки Лидии Степановой 💪🏼)
Пью пиво в предновогодней Москве благодаря Премии им. Дзиги Вертова. Спасибо тем, кто номинировал и пригласил -- это очень трогательно!
Пью пиво в предновогодней Москве благодаря Премии им. Дзиги Вертова. Спасибо тем, кто номинировал и пригласил -- это очень трогательно!
❤84❤🔥30🔥12👍5🥰4