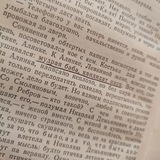Приготовьте ваши дизлайки.
Мне не понравился новый фильм Алекса Гарленда. Точнее — я почувствовала себя немного обманутой и разочарованной, выйдя из зала.
По сути Гражданская война (в российском прокате — Падение империи) — роуд муви о группе журналистов (набор персонажей банален до неприличия — женщина, мужчина, девочка, дед), отправляющихся в Вашингтон, чтобы взять комментарий у президента, пока повстанцы не добрались до Белого дома. Фон путешествия — финальный этап гражданской войны (не исторической, а гипотетической), с танками, пальбой вдалеке, кордонами и мародерством. Помимо эффектной постановки Гарленда хвалят за две вещи: смелый выбор темы (1) и нежелание угодить ни одной из двух американских политических партий (2). И поскольку Civil War обсуждают не только как хороший экшн, но и как политический феномен, не могу не отметить, что как раз концептуально фильм кажется довольно сомнительным.
Непартийность Гарленда, так смутившая некоторых американских критиков, конечно, импонирует. Но ее недостаточно. Следом ждешь ещё какой-нибудь разворот: ведь отказ мыслить чёрно-белыми категориями интересен ради авторского серого оттенка, а не потому, что позволяет не мыслить вовсе. Но именно это, как мне представляется, происходит в Civil War — неплохо скроенном жанровом фильме, с амбициозным сеттингом, который Гарленду на самом деле не по зубам. Гражданская война здесь — кликбейтный заголовок. Не обладает никакой спецификой, выходит не политической, а такой же условной, как типичные для американских антиутопий войны всех против всех за канистру бензина. В итоге оказывается совершенно неважно, что спровоцировало неконтролируемый всесторонний террор: распространение грибных спор, инопланетное вторжение или внутренний политический конфликт. Замени одно на другое — ни в сюжете, ни в героях ничего не изменится.
Но оригинальное название и повсеместные разговоры о смелости проекта как будто настраивают совсем на другое. Отказ делить героев на плохих и хороших похвален и совершенно понятен, но как-то фрустрирует, что гражданская война (а не абстрактная угроза) в конкретной (а не вымышленной) стране остается в итоге лишь скудно проработанным лором — нет ни идей о ее возможных причинах, ни предположений о ее потенциальных акторах (хорошо, есть президент как важная фигура, а куда делись все магнаты? кому теперь принадлежит NYT? где, зачем и для кого журналисты хотят опубликовать материал, за которым отправились, кто им платит за работу? почему у героини, многое повидавшей, на подступах к Капитолию все-таки случается паническая атака?). Так много вопросов, но ответ на все максимально общий: миру — *. Может, и так, но не сказать, что ради такого вывода очень нужен был новый фильм.
В каком-то смысле превращение Civil War в Падение империи (получается что-то из области Звездных войн) в российском прокате даже на руку Гарленду — позволяет снять с режиссера ответственность, которую тот явно не тянет. И попади он, не дай бог, на разговор к герою Джесси Племонса, тоже, боюсь, не нашёлся бы, что ответить.
— Я просто режиссёр.
— So what? Which kind?
(бесспорно лучший эпизод фильма)
Мне не понравился новый фильм Алекса Гарленда. Точнее — я почувствовала себя немного обманутой и разочарованной, выйдя из зала.
По сути Гражданская война (в российском прокате — Падение империи) — роуд муви о группе журналистов (набор персонажей банален до неприличия — женщина, мужчина, девочка, дед), отправляющихся в Вашингтон, чтобы взять комментарий у президента, пока повстанцы не добрались до Белого дома. Фон путешествия — финальный этап гражданской войны (не исторической, а гипотетической), с танками, пальбой вдалеке, кордонами и мародерством. Помимо эффектной постановки Гарленда хвалят за две вещи: смелый выбор темы (1) и нежелание угодить ни одной из двух американских политических партий (2). И поскольку Civil War обсуждают не только как хороший экшн, но и как политический феномен, не могу не отметить, что как раз концептуально фильм кажется довольно сомнительным.
Непартийность Гарленда, так смутившая некоторых американских критиков, конечно, импонирует. Но ее недостаточно. Следом ждешь ещё какой-нибудь разворот: ведь отказ мыслить чёрно-белыми категориями интересен ради авторского серого оттенка, а не потому, что позволяет не мыслить вовсе. Но именно это, как мне представляется, происходит в Civil War — неплохо скроенном жанровом фильме, с амбициозным сеттингом, который Гарленду на самом деле не по зубам. Гражданская война здесь — кликбейтный заголовок. Не обладает никакой спецификой, выходит не политической, а такой же условной, как типичные для американских антиутопий войны всех против всех за канистру бензина. В итоге оказывается совершенно неважно, что спровоцировало неконтролируемый всесторонний террор: распространение грибных спор, инопланетное вторжение или внутренний политический конфликт. Замени одно на другое — ни в сюжете, ни в героях ничего не изменится.
Но оригинальное название и повсеместные разговоры о смелости проекта как будто настраивают совсем на другое. Отказ делить героев на плохих и хороших похвален и совершенно понятен, но как-то фрустрирует, что гражданская война (а не абстрактная угроза) в конкретной (а не вымышленной) стране остается в итоге лишь скудно проработанным лором — нет ни идей о ее возможных причинах, ни предположений о ее потенциальных акторах (хорошо, есть президент как важная фигура, а куда делись все магнаты? кому теперь принадлежит NYT? где, зачем и для кого журналисты хотят опубликовать материал, за которым отправились, кто им платит за работу? почему у героини, многое повидавшей, на подступах к Капитолию все-таки случается паническая атака?). Так много вопросов, но ответ на все максимально общий: миру — *. Может, и так, но не сказать, что ради такого вывода очень нужен был новый фильм.
В каком-то смысле превращение Civil War в Падение империи (получается что-то из области Звездных войн) в российском прокате даже на руку Гарленду — позволяет снять с режиссера ответственность, которую тот явно не тянет. И попади он, не дай бог, на разговор к герою Джесси Племонса, тоже, боюсь, не нашёлся бы, что ответить.
— Я просто режиссёр.
— So what? Which kind?
(бесспорно лучший эпизод фильма)
👏16🫡9❤7👍2🤔1🤡1
В последние годы я стала куда меньше времени посвящать чтению философских текстов, но один удерживала в памяти и все выбирала время, чтобы к нему обратиться. Это курс лекций Мишеля Фуко Герменевтика субъекта. Что-то про него я знала заранее — например, основной концепт заботы о себе, который там, с опорой на эллинистических философов, противопоставляется самопознанию. Мне импонировало именно это различие — указание на то, что субъект творит, обретает, растит себя не (с)только за счет познавательной способности, но благодаря комплексному праксису, упражнениям духа, которые помогают в самом себе найти точку и оставаться неподвижным по отношению к ней. Забота о себе есть:
Несмотря на нежное слово забота, Фуко описывает ее осуществление как нечто, требующее непреходящего усилия (на манер чеховского молоточка):
И я — тоскливая, в последние годы часто слабеющая от тревоги и растерянности — намеревалась отыскать в книге что-то вроде рецепта, руководства к действию. И, удивительное дело, что-то похожее там обнаружилось. Не буду, конечно, пересказывать всю книгу, но кое-какие особенно затронувшие меня моменты хочется зафиксировать.
Во-первых, в тексте я нашла объяснение своей фрустрации от потребления философских текстов. Фуко описывает знание, не связанное с заботой о себе, как бесконечное движение вперед, пределов которому не видать. Оно меня и угнетает. Полезное знание, даже направленное с виду на нечто внешнее, напротив, должно сказаться на субъекте, что-то в нем сдвинуть:
Во-вторых, в Герменевтике субъекта есть мысль, пересекающаяся с деятельным творением отсутствия (Штейрль), после которого только и можно что-то построить: смысл в том, что для обращения взгляда к себе, субъекту необходимо сперва расчистить территорию — соблюдать гигиену своего тела (диететика), хозяйства (экономика) и отношений с людьми (эротика). Это еще не сама забота о себе, но необходимый этап подготовки к ней.
В-третьих, важнейшей мыслью Фуко мне кажется понимание заботы о себе как привилегии — в том числе, классовой. В том, чтобы заботиться о себе, есть христианская всеобщность призыва (потенциально любой может заботиться о себе) и исключительность спасения (фактически это сможет не любой). Но последняя связана не только с какой-то личной слабостью, несостоятельностью, леностью, — но и с социальным устройством, в котором не у каждого есть достаточно времени, автономии и покоя, чтобы практиковать заботу о себе.
Наконец, по тексту действительно рассыпан целый набор упражнений, которые сформулированы достаточно конкретно, чтобы их практиковать: проводить перед сном и после выслушанных речей досмотр души; смотря на любимое, всегда говорить себе, что завтра оно может быть утрачено; беречь память:
И, наконец, упражнение, некоторым образом объясняющее наше с вами стремление вести тг-каналы:
«…способ непрестанного преобразования истинных речей, глубоко укорененных в субъекте, в морально приемлемые принципы поведения... среда преобразования логоса в этос»
Несмотря на нежное слово забота, Фуко описывает ее осуществление как нечто, требующее непреходящего усилия (на манер чеховского молоточка):
«Забота о себе – это что-то вроде жала, которое должно войти в человеческое тело, все время напоминать о себе, зудеть, не давать покоя»
И я — тоскливая, в последние годы часто слабеющая от тревоги и растерянности — намеревалась отыскать в книге что-то вроде рецепта, руководства к действию. И, удивительное дело, что-то похожее там обнаружилось. Не буду, конечно, пересказывать всю книгу, но кое-какие особенно затронувшие меня моменты хочется зафиксировать.
Во-первых, в тексте я нашла объяснение своей фрустрации от потребления философских текстов. Фуко описывает знание, не связанное с заботой о себе, как бесконечное движение вперед, пределов которому не видать. Оно меня и угнетает. Полезное знание, даже направленное с виду на нечто внешнее, напротив, должно сказаться на субъекте, что-то в нем сдвинуть:
«Считается, что нужно, чтобы субъект менялся, преобразовывался, менял положение, в известном смысле и в известной мере становился отличным от самого себя, дабы получить право на доступ к истине»
Во-вторых, в Герменевтике субъекта есть мысль, пересекающаяся с деятельным творением отсутствия (Штейрль), после которого только и можно что-то построить: смысл в том, что для обращения взгляда к себе, субъекту необходимо сперва расчистить территорию — соблюдать гигиену своего тела (диететика), хозяйства (экономика) и отношений с людьми (эротика). Это еще не сама забота о себе, но необходимый этап подготовки к ней.
В-третьих, важнейшей мыслью Фуко мне кажется понимание заботы о себе как привилегии — в том числе, классовой. В том, чтобы заботиться о себе, есть христианская всеобщность призыва (потенциально любой может заботиться о себе) и исключительность спасения (фактически это сможет не любой). Но последняя связана не только с какой-то личной слабостью, несостоятельностью, леностью, — но и с социальным устройством, в котором не у каждого есть достаточно времени, автономии и покоя, чтобы практиковать заботу о себе.
Наконец, по тексту действительно рассыпан целый набор упражнений, которые сформулированы достаточно конкретно, чтобы их практиковать: проводить перед сном и после выслушанных речей досмотр души; смотря на любимое, всегда говорить себе, что завтра оно может быть утрачено; беречь память:
«Можно сказать, что память – это способ существования того, чего уже нет. И ровно в такой мере она обеспечивает нашу подлинную независимость и власть над собой; мы всегда можем, говорит Сенека, прогуливаться по тропинкам нашей памяти»
И, наконец, упражнение, некоторым образом объясняющее наше с вами стремление вести тг-каналы:
«Чтение будет неразрывно связано с письмом… очень большое место, в ней занимает письмо, некоторым образом личное, индивидуальное. Сенека говорил, что надо чередовать чтение и письмо. Нельзя все время только читать или только писать: если без конца пишешь, в конце концов обессилишь. Чтение, напротив, рассеивает и расслабляет. Нужно умерять одно другим, переходить от одного к другому так, чтобы собранное за чтением превращалось с помощью письма в нечто существенное… Ибо сам факт записи помогает разобраться с тем, о чем думаешь»
❤42👍7🔥4❤🔥2👏1
Дебютировала в подкасте!
Илья Верхоглядов и Роман Волынский — кинокритики, ведущие канала Сиди и Смотри — пригласили обсудить пограничные формы кино: мокьюментари и документалистику, задействующую постановку в качестве метода. Говорим про Первых на луне, Акт убийства и проекты Саши Барона Коэна (доказываю, что Бората и Кто есть Америка? можно смотреть как документальное кино). Послушать можно здесь. Говорят, выпуск получился рекордно длинным, не знаю, хорошо это или плохо, но очень надеюсь, что в любом случае интересно.
Илья Верхоглядов и Роман Волынский — кинокритики, ведущие канала Сиди и Смотри — пригласили обсудить пограничные формы кино: мокьюментари и документалистику, задействующую постановку в качестве метода. Говорим про Первых на луне, Акт убийства и проекты Саши Барона Коэна (доказываю, что Бората и Кто есть Америка? можно смотреть как документальное кино). Послушать можно здесь. Говорят, выпуск получился рекордно длинным, не знаю, хорошо это или плохо, но очень надеюсь, что в любом случае интересно.
Telegram
Подкаст «Сиди и смотри»
Закадровые голоса обсуждают кино. И делятся своими публикациями о фильмах/сериалах.
Мы — Роман Волынский и Илья Верхоглядов — молодые кинокритики, выпускники теории кино СПбГУ.
Подкаст: https://podcast.ru/1511406018
Контакт: @romanevol, @ilya_verh
Мы — Роман Волынский и Илья Верхоглядов — молодые кинокритики, выпускники теории кино СПбГУ.
Подкаст: https://podcast.ru/1511406018
Контакт: @romanevol, @ilya_verh
❤44🔥9❤🔥5👍2👏2😁1
Несколько месяцев назад мой товарищ затеял небольшой опрос о книгах и писателях, которые сильнее всего повлияли на его друзей. Не просто понравились или полюбились, а что-то сдвинули в личности — в планах, характере, образе жизни. В числе главных таких авторов я тогда без лишних раздумий назвала Сьюзен Сонтаг, вспомнив даже не как лет десять назад впервые открыла Против интерпретации, а знаменитую седую прядь ее темных волос, снимок в заваленном книгами и бумагами кабинете и суровое, не скорое на улыбку лицо, на котором фотографы обычно не ретушировали ни морщины, ни мешки под глазами. Часто думаю о том, что благодаря Сонтаг я совершенно не боюсь стареть: женщине, которой я восхищаюсь, на вид будто бы всегда было немного за сорок, а то и за пятьдесят.
Дочитав только что вышедший на русском сборник с изящным названием Под ударением, сперва почувствовала себя немного обманутой. Это действительно коллекция самых необязательных, вынужденных ее статей — в основном предисловий и славословий (исключение — объемный портрет Ролана Барта и чуткий комментарий к Зебальду). Но надо отдать должное составителям: каким-то чудом им удалось из обрезков выстроить лейтмотив, да еще и донельзя сейчас востребованный — про позицию автора, автобиографические мотивы, роль писателя. Впрочем, все подробности после прочтения из памяти улетучились, разве что афористическая цитата осталась:
Но все же я никак не могу сказать, что разочарована. Хотя бы потому, что, попытавшись сравнить эти тексты с другими ее сборниками, я подумала, что и в тех содержательно находила для себя не так уж много. Дело не в том, что письмо Сонтаг пусто, просто его наполнение по итогам прочтения не обязательно уносить с собой — так бывает после хорошей беседы, из которой только и можешь потом припомнить, каким славным был вечер.
Мои отношения с Сонтаг всегда были не столько про тексты, сколько про образ, который в свое время стал для меня ориентиром. Не хотелось писать, как она, но хотелось такой быть. В числе прочего, сделать вкус, знания и письмо своими профессиональными инструментами; практиковать феминизм, не будучи политической активисткой; вынести из академии лучшее, что она может дать, но сберечь автономию независимой исследовательницы. Словом, Сонтаг заняла в моем мире место следовательниц и адвокатесс из голливудских фильмов, чьи образы так будоражили меня в детские годы, и подарила новую мечту, план, ответ на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Так что спроси меня, что именно стоит читать у Сонтаг, и я скажу: дневники.
Пост, в общем, получился не про книгу, а про мое пристрастие. Закончу его соответствующим образом. Давно искала повод опубликовать кадр из документального фильма о Сонтаг, который некогда был кандидатом на фото обложки в этом канале. Вот он, повод, нашелся:
Дочитав только что вышедший на русском сборник с изящным названием Под ударением, сперва почувствовала себя немного обманутой. Это действительно коллекция самых необязательных, вынужденных ее статей — в основном предисловий и славословий (исключение — объемный портрет Ролана Барта и чуткий комментарий к Зебальду). Но надо отдать должное составителям: каким-то чудом им удалось из обрезков выстроить лейтмотив, да еще и донельзя сейчас востребованный — про позицию автора, автобиографические мотивы, роль писателя. Впрочем, все подробности после прочтения из памяти улетучились, разве что афористическая цитата осталась:
Жизнь, когда она не есть школа бессердечия, — это воспитание сочувствия.
Но все же я никак не могу сказать, что разочарована. Хотя бы потому, что, попытавшись сравнить эти тексты с другими ее сборниками, я подумала, что и в тех содержательно находила для себя не так уж много. Дело не в том, что письмо Сонтаг пусто, просто его наполнение по итогам прочтения не обязательно уносить с собой — так бывает после хорошей беседы, из которой только и можешь потом припомнить, каким славным был вечер.
Мои отношения с Сонтаг всегда были не столько про тексты, сколько про образ, который в свое время стал для меня ориентиром. Не хотелось писать, как она, но хотелось такой быть. В числе прочего, сделать вкус, знания и письмо своими профессиональными инструментами; практиковать феминизм, не будучи политической активисткой; вынести из академии лучшее, что она может дать, но сберечь автономию независимой исследовательницы. Словом, Сонтаг заняла в моем мире место следовательниц и адвокатесс из голливудских фильмов, чьи образы так будоражили меня в детские годы, и подарила новую мечту, план, ответ на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Так что спроси меня, что именно стоит читать у Сонтаг, и я скажу: дневники.
Пост, в общем, получился не про книгу, а про мое пристрастие. Закончу его соответствующим образом. Давно искала повод опубликовать кадр из документального фильма о Сонтаг, который некогда был кандидатом на фото обложки в этом канале. Вот он, повод, нашелся:
❤51👍6🥰6🫡1
Напоминаю, что 17-19 мая в Севкабеле и Порядке слов пройдет Фестиваль видеоэссе и видеопоэзии, организованный сообществом БЛИК!
Где бы вы ни были, присоединяйтесь в пятницу к онлайн-лекции Максима Селезнева, чтобы послушать, как сегодня видеоэссе обитает повсюду. За годы дружбы и общения я уже вполне привыкла к тому, как широко Максим мыслит эссеистические практики, но у тех, кто с этими рассуждениями не знаком, может немножко перевернуться мир.
Также напоминаю, что в субботу в 18.30 поговорю немного на площадке лекторий`порт о том, как эссеистическую форму перенимает документалистика, чтобы, по заветам Делеза, скорее ставить проблему, чем спешить с готовым и однозначным решением.
И, конечно, программы интригуют.
Вход везде свободный, но по регистрации:
18 мая — лекторий’ порт
19 мая — Порядок слов
Где бы вы ни были, присоединяйтесь в пятницу к онлайн-лекции Максима Селезнева, чтобы послушать, как сегодня видеоэссе обитает повсюду. За годы дружбы и общения я уже вполне привыкла к тому, как широко Максим мыслит эссеистические практики, но у тех, кто с этими рассуждениями не знаком, может немножко перевернуться мир.
Также напоминаю, что в субботу в 18.30 поговорю немного на площадке лекторий`порт о том, как эссеистическую форму перенимает документалистика, чтобы, по заветам Делеза, скорее ставить проблему, чем спешить с готовым и однозначным решением.
И, конечно, программы интригуют.
Вход везде свободный, но по регистрации:
18 мая — лекторий’ порт
19 мая — Порядок слов
❤🔥24
В последние недели в основном занята чтением и обдумыванием чужих больших текстов, поэтому не хватает ни сил, ни времени произвести свой — хоть сколько-нибудь внятный — маленький. Воспользуюсь этой ситуацией, чтобы немногословно упомянуть фильмы, от просмотра которых в последние месяцы было драйвово, кайфово, очень хорошо.
Дом у дороги
— описываю его друзьям как бутылочку Короны, распитую на свежем воздухе в очень жаркий день. Неидиллическая побережная Флорида — штат с не очень востребованной, но отчетливой иконографией. Бар возле моря — мечта. Если боевики о мужчинах с проблемами в стиле Голливуда 70х-90х не интересны, сюжет можно спокойно исключить из восприятия и просто смотреть на улыбающегося Джейка Джилленхола.
Проблемная
— Тильда Суинтон гениально воплощает уже третий за год женский образ, который кажется мне непереносимо раздражающим (до этого были героини Эммы Стоун из сериала Проклятие и Сандры Хюллер из Зоны интересов) — требовательная и капризная интеллектуалка средних лет, у которой все валится из рук на чужие плечи. Проблемная — кафкианская история с хорошим финалом, трогательный, но не слащавый фильм с главным героем (он же режиссер -- Хулио Торрес!), неуловимо напоминающим хрупкой неуверенностью Нейтана Филдера. Рождается новый типаж.
Претенденты
— не поклонница Гуаданьино, но уж очень круто сваренным получился новый фильм. Полностью построен на принципе фотогении — актерской (хочу больше фильмов с Джошем О`Коннором), визуальной (теннис в слоу мо выразителен, как в фильмах 1920-х) и звуковой. Совершенно потрясающий саундтрек написали Трент Резнор и Аттикус Росс, мастера триллерного звука, постоянно работающие с Финчером. Даже будь все остальное в фильме провальным, его одного хватило бы для опоры.
Дом у дороги
— описываю его друзьям как бутылочку Короны, распитую на свежем воздухе в очень жаркий день. Неидиллическая побережная Флорида — штат с не очень востребованной, но отчетливой иконографией. Бар возле моря — мечта. Если боевики о мужчинах с проблемами в стиле Голливуда 70х-90х не интересны, сюжет можно спокойно исключить из восприятия и просто смотреть на улыбающегося Джейка Джилленхола.
Проблемная
— Тильда Суинтон гениально воплощает уже третий за год женский образ, который кажется мне непереносимо раздражающим (до этого были героини Эммы Стоун из сериала Проклятие и Сандры Хюллер из Зоны интересов) — требовательная и капризная интеллектуалка средних лет, у которой все валится из рук на чужие плечи. Проблемная — кафкианская история с хорошим финалом, трогательный, но не слащавый фильм с главным героем (он же режиссер -- Хулио Торрес!), неуловимо напоминающим хрупкой неуверенностью Нейтана Филдера. Рождается новый типаж.
Претенденты
— не поклонница Гуаданьино, но уж очень круто сваренным получился новый фильм. Полностью построен на принципе фотогении — актерской (хочу больше фильмов с Джошем О`Коннором), визуальной (теннис в слоу мо выразителен, как в фильмах 1920-х) и звуковой. Совершенно потрясающий саундтрек написали Трент Резнор и Аттикус Росс, мастера триллерного звука, постоянно работающие с Финчером. Даже будь все остальное в фильме провальным, его одного хватило бы для опоры.
🙏19❤17🔥4👍3🤔1